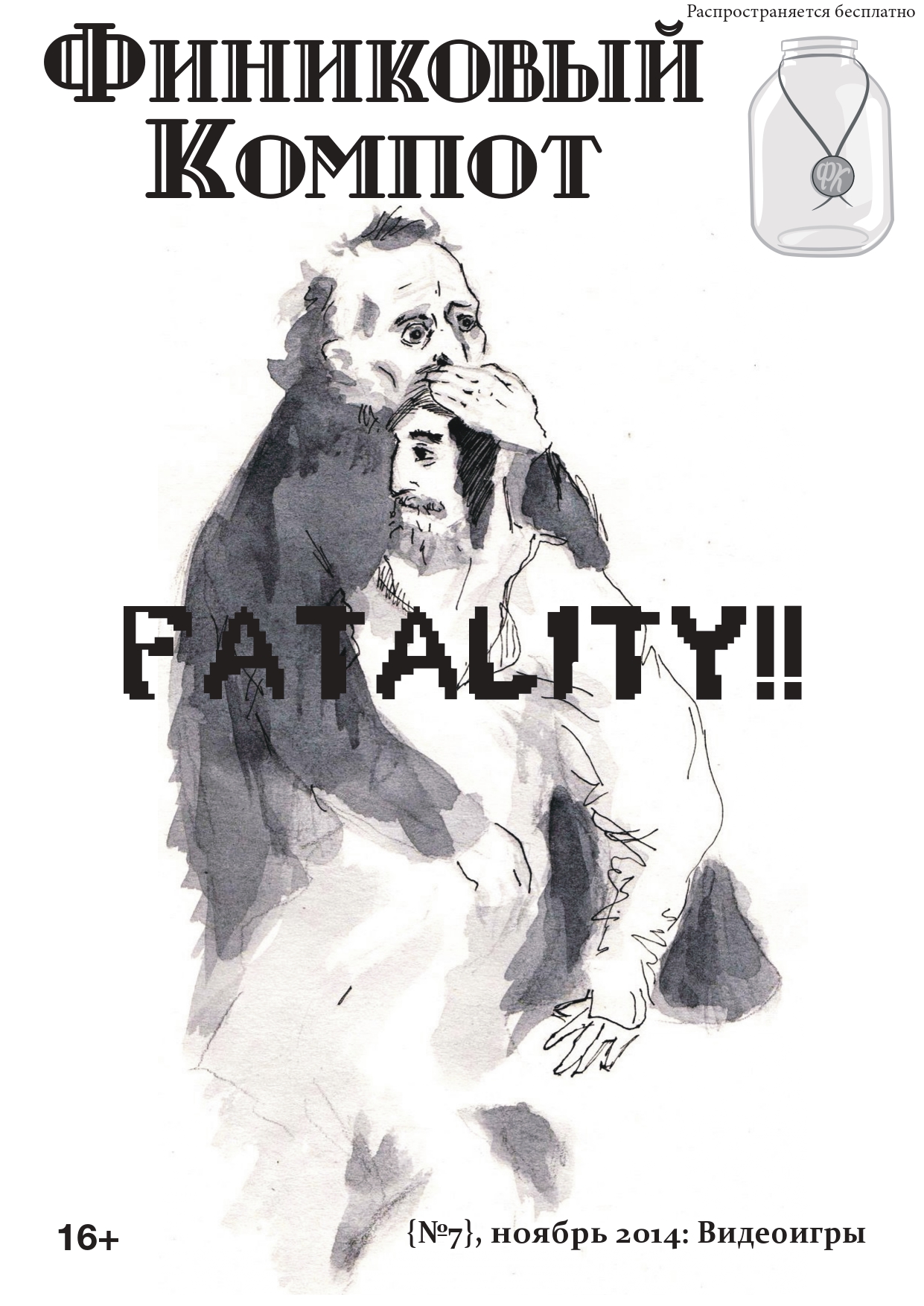Расширенный поиск
Финиковый Компот: Выпуск №7: Видеоигры (Ноябрь 2014)
2014Предоставлено редакцией
-
Содержание
Евгений Логинов.
Редакторская.....2
ТЕМА НОМЕРА
Александр Ветушинский.
Пролегомены к изучению видеоигр.....3
Давид Апфельбаум.
Еврейская жизнь как видеоигра.....5
Полина Ханова.
Что симулируют музыкальные симуляторы?.....6
Алексей Салин.
Очерк феноменологии видеоигр.....9
Александр Мишура.
Система развития навыков в RPG как поле философской рефлексии.....11
Мартин Хендрикс.
Играющий философ.....13
Иван Фомин, Евгений Логинов.
Что значит быть мобом.....14
РЕЦЕНЗИЯ
Иерей Алексей Андреев.
Поиск вне-исторического Иуды.....16
ИНТЕРВЬЮ Андрей Муравьев.
Насущная потребность духа.....17
Валерий Суровцев.
Язык — не роскошь.....19
Джесси Принц.
Чему стоит поучиться аналитическим .....21
ИДЕНТИЧНОСТИ Эдуард Карякин.
Почему нет линьковцев.....23
ФИЛОСОФИЯ В РОССИИ
Игорь Данилов.
Санкт-Петербургский философский семинар.....24
ФИЛОСОФСКИЕ СООБЩЕСТВА
Дмитрий Миронов.
Венский кружок: часть 2.....25
СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ
Николай Герасимов.
Проект анархического общества в Испании.....29
Редакторская
У нас маленький юбилей. Пять лет работы проекта «Философское кафе», частью которого является и этот журнал. Кроме этого, с прошлого номера произошли два важных события: во-первых, мы все, наконец, закончили специалитет философского факультета МГУ и, во-вторых, в июле этого года мы приняли участие в конференции «Проблемы сознания и свободы воли» в Гренландии вместе с Деннетом, Чалмерсом, Принцем, Кларком и другими англоязычными .....и.
Что мы сделали за пять лет? Кое-что. ФК начиналось как кофейные посиделки абитуриентов МГУ, МГЮА и МФТИ. Приходили студенты МАИ, ПСТГУ, ГУ-ВШЭ, ГУУ, ВГИК, ГИТИС. Теперь же ФК — разветвленная сеть философских проектов, объединяющая старшекурсников, аспирантов и молодых преподавателей философии. Функционирует ФКино (как в сети, так и в кинотеатре «Факел»), Лаборатория театральной антропологии, ведется паблик /philoscafe ВКонтакте и работает семинар по методологии историко-философского исследования при кафедре Истории зарубежной философии МГУ. Издается журнал, седьмой выпуск которого вы держите в руках. Мы поддерживаем научные связи с группами молодых философов из Петербурга, Томска, Киева, Калининграда, Неймегена.
Чем было вызвано такое обилие проектов? Прежде всего – попытками находить себя в разных областях. Но и еще – попыткой преодолеть скрытые в ФК конфликты и противоречия. Они, с одной стороны, делают нашу работу трудной, а с другой — вообще возможной.
Первый: конфликт между профессионализмом и популярностью. Мы не хотели бы делать популярную философию. Мы хотели бы работать с тонкими различиями и глубокими интуициями, и, черт возьми, познавать истину. Но нам бы не хотелось закрыться в цеховой замкнутости. Не хотелось бы застыть, разбираясь в мелочах терминологического аппарата или выдумывая с нуля никому не нужную теорию, как это часто происходит с .....и средней руки.
Второй: противоречие публичности и фундаментализма. В чем-то эту проблему я уже обозначил. Но если только что речь шла о «как», то теперь — о «что». Удовлетворяют ли нас, как два года назад, избираемые для журнала темы (а номера были: лень, смех, опоздание, курение, мусор)? Частично это издание было попыткой создать себе рекреацию для публичной речи. Но можно ли популярно говорить, скажем, о сознании, метафизике, проблеме исторической репрезентации, которые, признаюсь честно, волнуют нас больше, чем, скажем, собственная прокрастинация или неспособность приходить на свидания вовремя?
Третий: наметившийся конфликт дружбы и работы. Полагаю, что до недавнего времени его остро чувствовали только я и Андрей Мерцалов. Теперь, став шефом ФКино, его постигает и Александр Басов. Наши деловые отношения выстроены на сети взаимных неисполненных обязательств, просроченных обещаний и заброшенных проектов. Мы плохие работники, но еще более плохие соработники. Потому что внутреннее, что держит нас — дружба — сильнее, чем внешние формы работы, и она сама по себе отнимает много сил и времени. Но в ней самой нет никакой необходимости объективироваться в тексты или тезисы, а значит — работа стоит. Кроме того, конфликт углубляется еще и потому, что некоторые из тех, кто вовлечен в деятельность ФК, не избрали философию своей профессией после окончания учебы. Все обзаводятся семьями, пусть и из нашего же круга, но студенческое братство от этого утрачивает свою внешнюю определенность.
Множество проектов действует в этой ситуации на манер устройства подводной лодки. Автономия отсеков дает возможность потерять более половины судна, но все же остаться на ходу. Рассуждая таким образом, участники ФК не только множат свои проекты, но и активно наблюдают за чужими. Полагаю, что без ложной скромности могу сказать, что мы, наверное, лучше всех осведомлены о том, что делают российские философы, только начинающие строить свою карьеру. При подготовке этого выпуска, например, мы сотрудничали с .....и из Moscow Game Center, с аспирантами Высшей школы экономики, РГПУ им. А. И. Герцена и Radboud University.
Надеюсь, результаты нашей работы будут вам полезны.
Евгений Логинов
Пролегомены к изучению видеоигр
Формальный подход
Видеоигры — это не графика, не визуальный ряд и не история. Видеоигры — это форма. И действительно, одному и тому же содержанию можно придать разные формы (достаточно вспомнить множество игр из цикла «дева в беде») или же, наоборот, одну форму — различным содержаниям (уберите все содержательные аспекты из Castlevania: Symphony of the Night и Metroid: Zero Mission и вы обнаружите, что это вообще одна и та же игра). В этом смысле видеоигры — это не просто формы, но формы без содержания, как, к примеру, в культовых Pong’е и Тетрисе. Ведь даже без содержания и независимо от графической реализации Тетрис был и остается хорошей игрой. И хотя его можно пытаться всячески улучшить, добавляя цвета и увеличивая количество пикселей, на формальном уровне он останется таким, каким был прежде. Единственное, что изменит его — изменение самих правил. Следовательно, на формальном уровне видеоигра и есть ее правила. Но правила в видеоиграх — это не совсем то же самое, что правила в случае не-видеоигр. Например, в большинстве не-цифровых игр правила подобны общественному установлению. То есть все, что запрещено, то крайне нежелательно (хотя и возможно), а за нарушение следуют санкции. В видеоиграх же иначе: все, что запрещено, то в принципе невозможно. Правила в этом смысле оказываются подобны природным законам. И квадратик, репрезентирующий мячик в игре Pong, не застревает на сетке, обозначенной пунктиром, вовсе не потому, что прямоугольники, репрезентирующие ракетки, всегда настолько хорошо «отбивают» его, а потому, что квадратик в принципе не может там застрять — таково решение разработчиков, предшествующее игровой сессии конкретных игроков.
Содержательный подход
Некоторые из существующих игр действительно практически не отличаются друг от друга. Но в тот же Tomb Raider, возникший как клон Индианы Джонс, не в последнюю очередь играют именно из-за присутствия там Лары Крофт. И хотя можно говорить о видеоиграх по ту сторону любого содержания и каждый раз анализировать своего рода Тетрис (ведь на формальном уровне любая игра — это упорядоченное правилами взаимодействие абстрактных объектов, а значит Лара Крофт вообще никакого значения не имеет), действительно ли это помогает лучше понять видеоигры? Видеоигры как таковые — возможно. В конце концов, итогом формального исследования может стать утверждение, что за всю историю видеоигр реально существовало, допустим, всего десять игр, в то время как остальные тысячи — лишь вариации этих исходных десяти. Но дело в том, что даже если эти десять игр и существуют, то существуют они только благодаря актуальным тысячам, в которых оказались воплощены. И последние не только реализуют те схемы, которые якобы предсуществуют на уровне формы, именно благодаря им эти формы только и могут быть обнаружены. Поэтому изучать видеоигры — означает изучать их с учетом всех их индивидуальных особенностей. Каждый новый Тетрис — это новая игра.
Идеалистический подход
Все, что мы видим на экране телевизора или монитора, когда играем в видеоигры, к ним имеет лишь косвенное отношение. Ведь незабываемые персонажи, душещипательные истории, темные коридоры и полчища зомби — все это видеоигры, как они даны нам, не только игрокам, но и зрителям. Но в подлинном смысле – по ту сторону воспринимаемой человеческими органами чувств составляющей видеоигр — есть лишь числовой ряд, последовательность 0 и 1, некая упорядоченная интеллигибельная реальность. Поэтому изучать видео-игры означает изучать софт. Ведь любая видеоигра — это программа.
Материалистический подход
Видеоигры — это, конечно, реализация цифрового кода. Вот только писать игры можно по-разному. И выбор языка программирования далеко не всегда связан с личным выбором разработчика, довольно часто его диктует сама игровая платформа. К примеру, когда встал вопрос о портировании культовой игры Pac-Man с игровых автоматов на консоль Atari 2600, разработчики столкнулись с серьезной трудностью: на Atari, в силу технических ограничений, одновременно на экране могло присутствовать всего два движущихся объекта. При этом все прекрасно понимали, что Pac-Man с одним привидением — это несерьезно. И разработчики придумали следующую вещь, которую назвали мерцанием: привидения стали постоянно мигать. Идея заключалась в том, чтобы одновременно на экране оставалось только два объекта и в то же время в игре участвовали все четыре привидения, на мгновение исчезающие, а затем появляющиеся вновь. В этом смысле история видеоигр — это еще и история игровых платформ: от первых консолей и игровых автоматов — к персональным компьютерам, портативным игровым устройствам, смартфонам и планшетам. Именно они отвечают за то, каким будет код, а код отвечает за то, какой будет игра. При этом с визуальной составляющей видеоигр платформы также связаны напрямую. Ведь даже несмотря на то, что сегодня мы легко можем сыграть в игры 70-х годов, запустив их на компьютере, дать прочувствовать, что ощущали геймеры, играя в них на телевизорах с лучевой трубкой, современная техника все-таки не в состоянии.
Социокультурный подход
Видеоигры — это артефакт культуры. Они появились в обществе и в обществе же потребляются. И то, что видеоигры возникли в научных лабораториях в конце 40-х гг.; что прежде, чем в них начали играть дома, они нашли себе пристанище в залах игровых автоматов, к которым уже были приучены горожане; что, когда на рынок стали выходить первые персональные компьютеры, в их рекламе заявляли, что на них можно не только играть — все это не является просто незначительной добавкой к видеоиграм. Это и есть то, без знания о чем вообще невозможно понять, почему видеоигры такие, какими мы их знаем. История видеоигр в этом смысле прочно связана с историей культуры. И даже время и пространство видеоигр — это, к примеру, ночь и тот диван, на котором сидит геймер, а совсем не то, что он видит на экране. Видеоигры не имеют никакого значения без порожденного ими и порождающего их игрового сообщества и субкультур.
Метафизический подход
Видеоигры — это не только то, что мы изучаем, но и то, при помощи чего мы можем изучать. И подобно тому, как появление книги позволило нам начать читать природу, других и самих себя, так и появление видеоигр дает нам шанс стать персонажами довольно странной видеоигры, которую мы проживаем. Мы проходим уровни, прокачиваем умения, побеждаем боссов и берем все новые квесты, из которых не все оказываются нам под силу. Кроме того, соглашаясь посмотреть сквозь такую оптику на реальность, мы узнаем, что современная математическая физика — это программный код, известные со школы физические законы — правила игры, и что все существует лишь потому, что где-то работает платформа, которую кто-то запускает подобно тому, как запускаем платформу и мы, желая сыграть в новую видеоигру. Но если мы по отношению к видеоиграм занимаем позицию, которую и кто-то другой может занимать по отношению к нам, то разве не следует из этого, что мы должны иначе отнестись к видеоиграм, в которые играем? Отнестись к ним с доверием, этически, понимая, что мир какой-то конкретной видеоигры — это просто другой мир, вполне себе самодостаточный, существующий по каким-то своим законам. Наш мир — видеоигра, эти миры — видеоигры, и, будучи видеоиграми, они равны. Это призывает нас не просто играть в видеоигры, но стать своего рода сталкерами, исследующими новые земли.
Александр Ветушинский
Еврейская жизнь как видеоигра
Великий рабби Моше бен Маймон (РаМБаМ или Маймонид — в европейской традиции) начинает четвёртую главу первой книги своего «Путеводителя растерянных» классификацией ивритских слов, обозначающих видение: «Знай, что «видеть», «смотреть» и «созерцать» («видеть в пророчестве») — три этих глагола обозначают видение глазом и три способа разумения. А глагол «видеть» является общим для всех». То, что автор сих строк перевёл как «видеть» (ивр. рэ’э), — самое распространённое в святом языке слово для обозначения зрения и имеет ещё значения «наблюдать», «отражать», «пасти».
Б-га царь Давид называет ро’и — «пастух», буквально: «видящий» (Псалмы, 23:1). Вс-вышний видит мир, мир постоянно проходит перед Ним. При этом Б-г радуется, видя Вселенную: «Сидящий на небесах смеётся» (Псалмы, 2:4), «сотворил Он Левиатана [Левиафан — в устаревших русских переводах – Д.А.], чтобы играть с ним» (Псалмы, 104:26), — перед нами предстаёт смеющийся, играющий Пастырь (глагол сахек значит и «играться» и «смеяться»)…
…Детство многих из нас прошло за видеоприставкой — и поэтому мы понимаем, что значит и видеть всё происходящее на экране, и управлять им. Избита уже в течение последних двадцати лет метафора «наша жизнь — видеоигра!», и мы не будем бросать в это фигурное выражение ещё и свой камень. Речь о другом, куда менее очевидном.
На экране рано или поздно загоралось «Game over» — и тогда мы, раздосадованные, возвращались за уроки (или нас родители возвращали насильно) — в общем, в обычную жизнь; делали домашнее задание, шли гулять и оглядывались на этот мир. И, наверное, каждый думал при этом: «Вот он, мир настоящий, не виртуальный — его можно ощутить, потрогать, и от него не болят глаза!..»
Нечто подобное имеется и в еврейском мировоззрении. Наша эпоха, эпоха Галута, т.е. Изгнания, рассеяния, похожа на видеоигру из родных 90-х: с монстрами, супергероями, льющейся реками кровью. Но — как мы надеемся — этот видимый и странный мир скоро скажет «Игра окончена», и начнётся подлинная жизнь, когда можно будет вздохнуть полной грудью и взглянуть широко открытыми глазами. Это в иудаизме называется Олам hа-Ба, Мир Грядущий, когда и начнётся полноценная, не виртуальная жизнь. И тогда то, что виделось в пророческом видении, будет видимо самым обычным глазом.
Многие играют в видеоигры дни и ночи напролёт, просто живут в них. На них очень похожи те, кто воспринимает Галут за реальность, нескончаемую игру. Вот над ними-то и смеётся «Сидящий в небесах» из бессмертных творений Псалмопевца. Некоторые настолько уходят в игру, что даже забывают поесть и попить, а некоторые играют, попивая и едя. Еда и питьё связывают потонувшего в виртуальной реальности «геймера» с объективной её «версией» — подобно какому-нибудь попкорну и коле, Тора и заповеди напоминают нам о чём-то вне «экрана». Они связывают с настоящей реальностью (недаром ивритское слово мицва — «заповедь» — того же корня, что и арамейское цавта — «связь»).
А когда игроки наконец-то погасят свои «экраны» — их будет ждать закуска, прежде чем они пойдут гулять в реальную жизнь, — Левиатан, с которым пока играет Г-сподь Б-г. Ему же надо во что-то играть.
Что симулируют музыкальные симуляторы
Видеоигры, симулирующие игру на музыкальном инструменте (самые известные примеры — Guitar Hero и Rock Band), оказываются нетривиальным проблемным полем не только для философии видеоигр, но и для теории и феноменологии музыки. Что понимается под «музыкой» в том виде, в котором с ней имеют дело симуляторы, что они, собственно, симулируют, и как должно поменяться наше представление о музыке в связи с этим — вот некоторые из вопросов, которые я намереваюсь здесь поставить.
Набор возможных примеров здесь необходимо ограничен: это консольные игры, использующие в качестве инструмента управления джойстики, имитирующие музыкальные инструменты (обычно это электрогитара, но есть варианты с ударной установкой и клавишными).
Исследователей в музыкальных симуляторах интересовал в первую очередь аспект научения исполнительскому мастерству: может ли игра на симуляторах научить музыке? Это неизбежный вопрос к симулятивной природе игр; аналогичные вопросы задавались к гонкам, имитирующим на экране реальные гоночные треки и поведение реальных моделей автомобилей, и в конечном итоге к любым играм от первого лица — отсюда все дискуссии об этичности изображения насилия в RPG и подобные: перефразируя Уайлда, в какой степени реальность подражает игре? Интересен этот поворот проблемы и маркетологам как потенциальная возможность распространения геймификации в пространство образовательных практик.
Американские исследовательницы де Кастелль и Дженсон провели мини-исследование взаимодействия с игрой Guitar Hero II людей, уже имевших опыт музицирования, и без такового. В первом приближении оказалось, что испытуемые, уже умевшие на чем-то играть, быстрее осваивали контроллеры Guitar Hero. К этому, впрочем, имеет отношение хотя бы чувство ритма, развиваемое музыкальным образованием и необходимое для успешного прохождения GH. Интереснее было бы задаться вопросом, как игра влияет на исполнительские способности музыкантов, и ответ здесь не так очевиден, как может показаться. Несомненно, игроки, играющие в спортивные игры на Wii, сжигают реальные калории, ударники на Rock Band развивают мышцы рук, певцы в SingStar или American Idol тренируются дольше и точнее держать ноту, гитаристы на Guitar Hero учатся быстрым и точным переходам между аккордами.
Но, по большому счету, хорошо играть в GH — это просто вопрос координации глаз и пальцев; в нее можно с тем же успехом — и, возможно, даже лучше — играть и на обычном джойстике — он, в конце концов, эргономичнее.
Но в какой-то момент выясняется, что музыкант, хорошо играющий на гитаре или просто с хорошим слухом, испытывает проблемы с игрой, по крайней мере, поначалу.
Возникает парадокс: игроки отмечают, что играть для получения максимума очков легче, если отключить звук.
Зачем тогда вообще кто-то стремится имитировать игру на музыкальном инструменте, когда ни о каком музицировании речи не идет?
Какого рода удовольствие нам продают
Чтобы в этом разобраться, рассмотрим, в каком пространстве разворачивается игра.
Родина музыкальных симуляторов — симуляторы танцевальные: Dance Dance Revolution (DDR) и ему подобные. Это объясняет наличие на экране фигур рокеров. В GH ты смотришь на исполнителя и только в конце видишь стилизованную толпу. То есть это игра в чистом виде, она феноменологически не является «игрой от первого лица».
В этом GH наследуют DDR. Но их эволюция пошла в две разные стороны: DDR сделал попытку уйти в хип-хоп и брейкданс, и эта стратегия провалилась, потому что разница между движениями игрока и движениями «аватара» на экране оказалась слишком велика. Возникла проблема suspended disbelief (подвешивания недоверия): нужен баланс между «символичностью» действий игрока и действиями аватара. Когда тело превращается в джойстик, а его движения — в совершенно условные команды, игра теряет свою специфику стимулятора и превращается в обыкновенную видеоигру. C другой стороны, возможно подключение DDR к технологии EyeToy, которая позволяет использовать все тело в качестве контроллера и создавать более точную связь между фигуркой на экране и телом игрока. Вот тогда это начинает превращаться в танец как танец, но выходит за пределы игры: геймплей превращается в инструкцию для танца.
GH идет по другому пути: поведение изображенных на экране персонажей условно и почти не соотносится с действиями игрока. Отсюда и обращение к квазиреалистичным джойстикам: они выполняют необходимую функцию «подвешивания недоверия». Но нажатия клавиш на джойстике имеют крайне условное отношение к «исполняемому» звукоряду: для игры используются не нотные партии, а создается некая «модель» музыкального произведения (точнее, несколько разных моделей для разных уровней сложности). Музыканту очевидно, что движения джойстиком в разы проще, чем издаваемые звуки (поэтому музыкантам играть труднее); но дистанция, с одной стороны, должна быть, чтобы позволять неопытному игроку «играть» довольно сложные партии, а с другой стороны, должна быть преодолимой, чтобы «подвешивание недоверия» выполнялось.
То есть, в отличие даже от DDR, суть GH состоит не в управлении персонажем на экране и переносе своего телесного опыта в пространство симуляции: собственно на экране ничего не происходит; игра разворачивается в пространстве взаимодействия тела игрока и контроллера. То есть в том же пространстве, что и обычное музицирование. Игроки не просто стремятся получить наиболее высокие очки — они играют с красивыми жестами, танцуют, делают трюки, подобно рок-музыкантам на сцене, и записывают свои выступления на видео.
Характерно и то, что эволюция музыкальных симуляторов происходит не на стороне кода, а на стороне исполнительских технологий. От примитивной гитары для GH (впервые вышла в 2005 году) джойстики прошли значительный путь — уже с 2007 в Rock Band (RB) присутствует ударная установка, клавишные, а гитароподобные контроллеры увеличивают количество кнопок вплоть до ION AllStar Guitar Controller, обладающего полным набором струн и ладов. Технически ничто не мешает подключить к игре настоящую электрогитару и придать игровую интерпретацию частотам колебания струн. Игра стремится совпасть с реальным музыкальным исполнением на уровне инструмента.
То есть симуляторы, появившиеся как стремление видеоигр охватить ещё одну сферу человеческой жизни, оказались событием не игровой индустрии, а музыкальной. Игровой процесс здесь мыслится уже в терминах исполнения, а не прохождения или набранных очков. Недаром в издании Beatles Rock Band принимала участие студия Apple. Опыт игрока в RB, GH или American Idol оказывается предметом феноменологии не столько видеоигр, сколько музыкального исполнительства.
Возникает вопрос, что такое исполнительское в музыке. Какова ценность исполнения? Собственно, вопрос о разнице между композицией и исполнением — примета классической музыки очень недолгого периода, связанного с нотопечатанием. «Конец времени композиторов» (по выражению Мартынова) как раз произошел с началом записи: микрофон стирает композитора из пространства коммуникации со слушателем, слушатель остается один на один с конкретным исполнением, которое можно тиражировать.
Нотная последовательность является исходным абсолютным «текстом» классического музыкального произведения, но нотный текст не равен музыке. Нотный текст идеально математичен (как и метки на экране в GH или RB), но смысл классической исполнительской музыки в том, что нотному тексту никто не следует в точности; творчество исполнителя дополняет творчество композитора. Возможность же записать звучание конкретного исполнения рассматривалась сугубо как медиум между слушателем и «подлинностью» живого звука.
Появление более сложных звукозаписывающих технологий покончило с этой моделью: с освоением многодорожечной записи в 60-е гг. стало возможно создавать музыкальные произведения, существующие только в записи (микстейпы Кейджа, конкретная музыка, использование замедленных, ускоренных, пущенных задом наперед записей). Нотный текст распадается и теряет смысл в качестве конечного источника, трансцендентального означаемого музыкального произведения. Отныне запись является не медиумом, а самим произведением, и особенно это характерно для рок-музыки, которая и используется в музыкальных симуляторах. Задача симулятора (теоретически) — в точности воспроизвести конкретное исполнение. Симуляционные технологии позволяют игроку принимать в свое тело, воспроизводить на своем теле чужое исполнение. С технической точки зрения ничто не мешает поместить на экран 144 дорожки, подключить к компьютеру синтезатор и написать последовательность, позволяющую воспроизвести исполнение Рихтера или Гленна Гульда. Но, как уже было сказано выше, симуляторы не имеют отношения к воплощению музыкального звучания, которое обеспечивается специально подготовленными и записанными треками. Роль игрока сводится, если угодно, к «монтажу» фрагментов этих треков: нажатие нужных клавиш в нужный момент заставляет трек звучать (или не звучать — в случае ошибки). Музыкальная составляющая явно приносится в жертву доступности игрового процесса немузыканту.
Итак, отношение между исполнителем и музыкой ослаблено, и в центре внимания остается телесный опыт исполнителя. Именно он является предметом симуляции — но можно ли это называть собственно симуляцией? Ведь телесный опыт формируется каждый раз заново и сугубо индивидуально.
Игры, подобные Guitar Hero и Rock Band, открывают новый способ переживания музыки. Если запись понималась классически как способ тиражирования опыта слушателя (живого исполнения), опыта зрителя, находящегося на концерте, то музыкальный симулятор является способом трансляции опыта исполнителя. И, как запись обнаружила в музыке сплошное звуковое полотно (в отличие от дискретного нотного текста), музыкальные симуляторы обнаруживают в музыке телесную практику.
Это то, что музыкальные симуляторы могут рассказать нам о музыке. Что они могут рассказать нам об играх? О рассмотрении видеоигр как эстетической формы написано немало, но в свете целерационального строя RPG казалось контринтуитивным рассматривать их прохождение как эстетическую форму. А ведь у них много общего с музыкой: игра мертва сама по себе, это просто цифровая запись, ей требуется материальный носитель (инструмент) и, собственно, игрок (исполнитель). В музыке конкретное исполнение является не менее ценным, чем само произведение; более того, без исполнителя произведение мертво. Почему бы тогда не воспринимать прохождение игры как исполнение партитуры — со своими сложными местами, со своей уникальной исполнительской манерой каждого игрока, со своей интерпретацией? Это открывает новые пространства как в опыте существующих игр, так и в создании новых.
Полина Ханова
Очерк феноменологии видеоигр
Сегодня дебаты относительно формальной природы видеоигр вряд ли вообще еще могут кого-то удивить и заинтересовать. Что представляет игра сама по себе — повествование или же систему управляемых правилами условных переходов, актуализируемых в процессе симуляции — мало что может нам сказать по сравнению с тем, во что она превращается в процессе взаимодействия с другим себе. Поэтому куда интереснее, что такое игра для нас. Нас не должна интересовать видеоигра-в-себе есть только видеоигра, данная в том множестве явлений, в которые она вписана. Метафизика видеоигр поэтому заранее обречена на провал. Поэтому, я думаю, сегодня имеет смысл говорить лишь о феноменологии видеоигр, описывающей, как являющийся нам на мерцающем экране монитора мир игры каждый раз заново переопределяет те формы, в которых мы воспринимаем и его, и самих себя.
В этом смысле мы не можем начинать с описания форм чувственности, в которых игрок воспринимает мир видеоигры, как Кант начинал свою трансцендентальную эстетику. Трансцендентальная эстетика видеоигр фактически предполагала бы как нечто само собой разумеющееся различие на внутреннюю чувственность и на внешнюю, на то, как игрок воспринимает свой мир, и мир игры. Феноменология видеоигр должна всегда смотреть на секунду раньше, не представляя нечто сформировавшееся как нечто формообразующее. Феноменолог, исследующий видеоигры, никогда не знает, что ждет его за экраном, пока он не нажмет кнопку «Start» на своем джойстике. И лишь после начала игры формы игровой чувственности начинают образовываться, причем всякий раз по-разному.
Играя, игрок залипает, он прилипает к экрану. Он оказывается втянутым в мир видеоигры, потому что мир этот его захватывает. Чтобы выжить в нем, игроку приходится принимать этот мир таким, какой он есть, и вырабатывать стратегии для успешного пребывания в этом мире. Но для этого ему нужно не упорствовать в исполнении своего собственного изначального плана, наброска, напротив, ему нужно оставить за пределами игры все свои планы, чтобы понять, чего же хочет от него сама игра. И только тогда он сможет вырабатывать в рамках ее мира какие-то планы и наброски. Геймер, включая свою приставку, оказывается, таким образом, сверх-восприимчивым по отношению к игре, он не просто встречается с ней как с чем-то, что ему надо использовать ради удовлетворения своих потребностей, игра является ему сначала как проблема, которая заставляет с собой считаться.
Открывая впервые тетрис, я не могу сразу понять, что мне нужно делать, я должен сначала пару раз проиграть, и лишь затем я пойму, что к чему. Это значит, что я должен вписать свои действия в игру, иначе я не смогу остаться в ней.
Этот момент пассивности геймера с самого начала ставит под вопрос различие между его внутренней и внешней чувственностью, различие между тем, как он ощущает самого себя, и тем, как он ощущает мир игры. Где, собственно, пролегает эта граница, если геймер оказывается вынужденным, сидя здесь, перед экраном, полностью быть там, за экраном, вслушиваться в мир за экраном, вглядываться в него и быть, тем не менее, здесь, наслаждаться своими достижениями, понимая, что все это только игра, иначе он и вовсе не получал бы удовольствия от игры, но, скорее, испытывал бы неподдельный ужас или отвращение от разлетающихся во все стороны внутренностей своих врагов в каком-нибудь слэшере? В исследованиях видеоигр эта проблема известна как проблема одновременной вовлеченности и условности игрового опыта.
С одной стороны, в момент игры геймер должен быть вовлечен в процесс, без этого игра оказывается скучным и неинтересным занятием; с другой стороны, геймер должен осознавать условность этого процесса, иначе, проигрывая своему другу в онлайн-сессии игры «Call of Duty», он хотел бы вступить с ним в бой не на жизнь, а на смерть и после игры.
В силу этой двойственности условности и вовлеченности, присущей игровому опыту, граница между игроком и миром игры оказывается размытой. Кажет-ся, она должна проходить и по геймеру, и по миру игры. Есть ли тогда вообще возможность как-то говорить об этой границе? Наш подход требует эту границу обнаружить, ведь феноменологически мы чувствуем, что граница эта все-таки есть, иначе пропал бы феномен условности видеоигрового опыта. Возможность говорить о границе между игроком и миром игры предоставляет тот факт, что, согласно тезису о вовлеченности игрока, мир игры должен предполагать в самом себе то место, из которого игрок может быть репрезентирован в этом мире. Тем самым, мы можем зафиксировать некоторую область медиации, которая одновременно оказывается принадлежащей и геймеру, и миру игры, и именно эта область медиации одновременно является и той границей между игроком и игровым миром, на поиски которой мы отправились.
Что это за область? Эта область являет себя как аватар игрока, поскольку с помощью своего аватара игрок оказывается погруженным в мир игры, и именно в нем мир игры приемлет в себя игрока. В аватаре мир игры представляет себя игроку, а игрок представляется в мире игры. Возражение о том, что существование аватара предполагается только некоторыми видами игр, преимущественно, играми от первого лица, здесь не работает, потому что аватар игрока не должен существовать непременно как визуально оформленный игровой персонаж. С технической точки зрения, аватар — это просто та точка, с которой игрок наблюдает за миром игры. И в этом смысле, у игрока есть свой аватар даже в самых безличных видеоиграх. Например, в игре «SimCity» игрок смотрит на управляемый им город с позиции парящего над миром божественного духа, и эта позиция и является его аватаром, хотя игрок, конечно, не играет за бога как за персонажа.
И именно на основании различных конфигураций этой медиативной области и выстраиваются каждый раз заново конфигурации внутренней и внешней формы игровой чувственности. В зависимости от того, как эта область устроена, игрок по-разному ощущает и самого себя и мир игры. Можно привести несколько примеров такого устройства, не претендуя на универсальность этих примеров и на то, что они представляют собой конечный список возможных способов самоказания игры.
Возьмем для примера игру «The Elder Scrolls V: Skyrim». В ее случае мы имеем, можно сказать, классический кантианский тип игры, поскольку в ее случае внешний игроку мир игры являет себя в пространстве, но не во времени, в то время как самого себя игрок ощущает только во времени, но не в пространстве. Пространство в мире этой игры построено очень сложно, игрок может почувствовать его возвышенность, его необъятность, когда он его созерцает непосредственно или когда он читает о нем в многочисленных книгах, попадающихся ему то тут, то там во время его странствий. Игрок может передвигаться по миру игры практически бесконечно. Хотя у игрового мира и есть свои пространственные границы, по сути, весь игровой процесс связан с тем, что игрок должен так или иначе путешествовать по карте Cкайрима. Но при этом особенностью данной игры является то, что игрок может придавать своему персонажу какую-то идентичность. Это означает, что, хотя пространство полностью уходит вовне, в мир игры, игроку остается время для того, чтобы он мог сделать своего героя эльфом или орком, воином или магом, или же вором. И на это игроку дается время. Время как бы остается между ироком и экраном, за которым игрой полностью правит пространство, не оставляя времени никакого места. Это можно пояснить на нескольких достаточно парадоксальных примерах. Например, к персонажу игрока подбегает испуганный неигровой персонаж и умоляет как можно скорее спасти его друга, попавшего в темницу, иначе его убьют злые орки. Игрок соглашается на выполнение этого задания, но потом откладывает это задание в долгий ящик, путешествует по Скайриму, делает все что угодно, и только в самом конце игры спасает пленника, которого обещал спасти. То есть, хотя задание вроде бы и дается на время, у игрока есть бесконечно большое количество времени для того, чтобы делать то, что он сам хочет. Конечно, здесь можно указать на то, что в момент боя время оказывается очень важным и для самого игрового процесса, так как на восстановление силы или магии уходит время. Но здесь важно отметить, что наша идея о различных конфигурациях внутренней и внешней чувственности не противоречит возможности совмещения различных модусов чувственности в одной игре. Феноменологически мы ощущаем, что бой является скорее микроигрой в рамках макроигры и не нарушает общих для игры способов данности.
Но другие игры могут являть себя и по-другому. К примеру, существует обратный тип игры, когда мир игры дается игроку только во времени, но самого себя он ощущает исключительно в пространстве, полностью лишаясь при этом времени. Такую игру являет собой «Guitar Hero». Время оказывается навязанным игроку самой игрой, потому что он должен во-время отбивать ритм, но при этом пространство остается игроку для самореализации. В игре нет никакого интерактивного пространства, все, что видит игрок, — это только клип, в котором даже отсутствует его собственный визуально оформленный и управляемый им персонаж. Но при этом игрок сам оказывается своим собственным персонажем. Свобода игрока проявляется в его телесных действиях, когда он может перебросить через себя гитару, потрясти ее и так далее. В этом состоит нестандартность этой игры и ее революционность.
Подчеркну, что это не попытка создать очередную классификацию видеоигр. Это попытка феноменологического описания возможных видов игрового опыта, которые могут смешиваться в разных играх, и далеко не обязательно, что их можно было бы исчерпать в единой классификации. Задача феноменолога — описывать, а не предписывать, исходить из данного, а не раздавать задачи. Язык описания не должен заслонять собой феномены игровых миров.
Алексей Салин
Система развития навыков в RPG как поле философской рефлексии
Когда человек учится управляться, к примеру, с холодным оружием в реальной жизни, процесс развития его навыков можно измерять различным образом. Однако на любом этапе будет наблюдаемо нечто лишь искусственно разделяемое на составляющие. Новичок будет неправильно стоять, неправильно держать оружие, его движения будут неловкими, все это будет образовывать низкий навык владения оружием. В случае компьютерного персонажа развитие навыков необходимо должно быть промоделировано, т.е. расчленено на составляющие и связано в некоторую систему. Эта задача может оказаться небезынтересной для теоретического рассмотрения, поскольку требует «сконструировать» систему, описывающую развитие человека, а за такой моделью необходимо будет стоять определенная антропология. Разумеется, можно занять позицию «понимающих» и говорить, что целостность человека не стоит аналитически разделять, а потом собирать вместе. Перенос вопроса в сферу видеоигры позволяет несколько смягчить противостояние аналитиков и понимателей: задача состоит не в том, чтобы охватить всю реальную сложность деятельности человека, а в том, чтобы создать её модель, наиболее адекватную задачам разработчика игры. Пусть модель будет примитивней реальности, если она будет интересна игрокам, если она будет вовлекать в игру, значит разработчик молодец. В то же время «реалистичность» была и остается целью развития по крайней мере некоторых жанров видеоигр. Если модель развития навыков будет слишком далека от реальности, её с большой вероятностью назовут «дурацкой», опираясь именно на некоторое стихийное представление о том, как оно устроено «в мире». Допустим, если в игре можно хорошо владеть двуручным мечом, не обладая высокими показателями силы, то модель навыков будет явно нереалистичной. Ниже мы, не претендуя на прорывы в игростроении, подумаем над тем, как можно сделать более реалистичной (по крайней мере, в рамках здравого смысла) систему развития навыков в видеоиграх. Стоит уточнить, что речь здесь пойдет прежде всего об RPG, где система развития навыков персонажа образует одну из ключевых составляющих успеха игры. Ход нашего размышления будет двигаться от некоторых аспектов развития навыков человека в реальной жизни к возможности их реализации в игре, и далее — к возможности рассматривать видеоигры как полигон для реализации философских идей.
Первая идея возникает из следующего наблюдения: допустим, у нас есть высокоуровневый персонаж, у него отлично развит, к примеру, навык обращения с дробящим оружием, но совершенно не развит навык владения двуручными мечами. Если начать «прокачивать» владение «двуручниками», придется потратить столько же очков опыта/времени, сколько бы это заняло, развивай мы персонажа с нуля. Между тем, представляется очевидным, что некоторые навыки явно пересекаются — в том смысле, что, развивая один из них в реальной жизни, мы неизбежно развиваем также и второй. К примеру, изучая один европейский язык, допустим, итальянский, мы существенно упрощаем себе изучение в будущем, скажем, французского языка. Нечто подобное можно ввести и в систему развития навыков. В таком случае некоторые навыки могут быть связаны друг с другом по определенной формуле, к примеру: навык владения двуручным мечом 90 из 100 переводится в коэффициент 0,9, и в случае прокачки «смежных» с ним навыков прибавление будет идти со скоростью в 1,9 раз быстрее. Таким образом, ситуация с очевидно нереалистично диспропорциональным развитием схожих навыков может быть по крайней мере сглажена. Кроме того, в данном случае, вводя больший реализм, мы помогаем игроку.
Вторая идея усложнит жизнь игроку. Она опирается на простую закономерность — некоторые навыки в реальной жизни могут утрачиваться или, точнее, снижаться. Если у человека были высоко развиты навыки кузнеца, а затем он некоторое время не занимался кузнечным делом — логично предположить, что этот навык снизится. Однако понижение навыков как следствие их неиспользования может показаться чрезмерно суровым. Между тем, можно обратиться к еще одному наблюдению — восстановить навык обычно проще, чем начинать с нуля. В этом смысле понижение навыков не будет слишком обременительным, но будет стимулировать разнообразие деятельности игрока. Кроме того, может отойти в прошлое достаточно скучная ситуация, в которой максимально развитому персонажу просто нечего будет делать. С учетом возможности деградации, само «сохранение формы» станет задачей.
Наконец, третья идея касается развития высокой степени мастерства. Первые шаги в овладении каким-либо навыком и достижение среднего уровня в его использовании зачастую достигаются стандартизированным путем, однако высокие степени мастерства требуют экстраординарных усилий. Между тем, этот момент если и моделируется в видеоиграх (к примеру, чем более высокий уровень требуется — тем больше раз нужно повторить некоторые стандартные операции), то его творческая сторона теряется. Закрывая эту брешь, можно модицифировать систему развития какого-либо навыка таким образом, что каждый следующий этап будет требовать овладения новым способом прокачки. Допустим, для того, чтобы развивать базовые навыки в зельеварении (к примеру, 1-10), нужно просто совместить нужные ингредиенты; следующий уровень будет включать определение простых пропорций ингредиентов; следующий — более сложные расчеты, и т.д. В случае владения оружием более высокие требования могут предъявляться к способам вести бой (использование комбо, уловок и т.п.). Реализация этой идеи позволит достичь того, что до сих пор не является необходимой частью развития персонажа — высокоуровневый воин для своего развития будет вынужден не бездумно махать мечом, что обеспечивало победу на низких уровнях, а включать в свои действия сложные технические элементы, которые, конечно, нужно еще грамотно разработать.
Разумеется, можно предложить еще несчетное количество идей, однако, с философской точки зрения, было бы ценно концептуализировать задачи, стоящие перед моделирующим реалистичную систему развития навыков разработчиком. С одной стороны, имеется очевидная связь между сложностью освоения системы развития персонажа и популярностью игры — слишком сложная система не будет популярна. С другой стороны, чрезмерная сложность зачастую бывает скорее нереалистичной, по крайней мере, в смысле не-интуитивности. Как было сказано выше, в реальности человек представляет собой не агрегат навыков, а нечто целостное, т.е. невозможно последовательно и жестко разделить компетенции.
Разработчик должен воспроизвести эту целостность посредством установления сложной системы связей между навыками, т.е. его задача состоит не просто в определении названия навыков и их типологизации, но в создании функциональных зависимостей между ними — это, собственно и составляет нашу первую идею. Другая трудность моделирования связана с тем, что в реальной жизни навыки не существуют как нечто количественно абстрагированное от деятельности — ты умеешь то, что делаешь или, по крайней мере, делал. Наша вторая идея как раз и предполагает установление взаимосвязи между деятельностью и развитием навыков. Наконец, третья идея связана с тем, что развитие навыка в реальной жизни всегда содержит творческое наполнение, которое зачастую нивелируется в играх. Более того, за пределами стандартных первых шагов находится поле экспериментов, за счет которых только и возможно дальнейшее развитие.
Промоделировать это пространство творчества в системе развития навыков — крайне трудная задача. Однако внесение разнообразия в монотонную прокачку посредством императива освоения сложных вариантов использования навыка может, по крайней мере, разнообразить процесс.
Александр Мишура
Играющий философ
Видеоигры и философия — два предмета, между которыми не ожидаешь увидеть связь. В глазах многих людей видеоигры — это просто игры. Глупое, бездумное и неглубокое развлечение, которое ничему не учит. Но это очень предвзятая позиция. Хотя видеоигры и являются относительно новой средой, они могут быть использованы в философии так же, как и художественная литература или фильмы. С другой стороны, интерактивный аспект видеоигр привносит свою специфику.
На втором году обучения мне нужно было написать что-то о «пластичном человеке», то есть человеке технологически измененном, например, посредством протезирования или вследствие модификации его ДНК. И видеоигра Deus Ex: Human Revolution послужила мне прекрасным источником иллюстративного материала. Главная идея этой игры ¬— продемонстрировать возможный провал трансгуманистического мира. В игре сделан акцент на негативных аспектах инженерии человека. Например, в ней демонстрируется, что пропасть между бедными и богатыми в таком мире станет еще шире, потому что состоятельные люди смогут позволить себе более качественные усовершенствования, а значит, имеют еще большее преимущество в спорте, работе и тому подобном. Я использовал Deus Ex в качестве мысленного эксперимента, и на его основе удалось сформулировать новые аргументы, направленные против некоторых идей трансгуманизма.
Данный случай хоть и демонстрирует определенную применимость видеоигр в философских изысканиях, однако для него специфика видеоигр не является существенной. С тем же успехом в поисках аргументов против трансгуманизма можно было бы обратиться, скажем, к кино или художественной литературе.
Многим, наверное, знакома игра Mass Effect. В свое время мне пришло на ум пройти её, опираясь на некоторую этическую теорию. Я взял импонировавшие мне аристотелевскую этику и утилитаризм. Главной целью было выяснить, насколько легко они могут быть применены на практике. Каждый раз, когда в игре мне нужно было сделать выбор, влияющий на сюжет, я старался выбрать то, что выбрал бы последователь той или другой этической теории соответственно.
В принципе, с той же целью вместо Mass Effect можно было бы взять и любую другую видеоигру с нелинейным сюжетом. Определяющей в данном случае является интерактивность игры и отсутствие в ней жесткого предопределения решений главного героя. И именно в этом раскрывается специфика видеоигр. В книге или фильме история всегда неизменна; невозможно повлиять и на личность главного героя. В играх же история меняется соответственно выбору игрока: вы напрямую влияете на сюжет посредством своего действия в игре. Именно это обеспечивает саму возможность руководствоваться некоторой этической теорией при прохождении видеоигры, позволяет апробировать её и вскрыть те или иные нюансы, остававшиеся потаёнными при одном лишь теоретическом рассмотрении.
Несомненно, существует и множество иных способов применения видеоигр в философии. Новые философские проблемы поднимают онлайн-игры. Насколько, например, реальна дружба, которая появилась и поддерживается только в сетевой видеоигре, в которой игрок может свободно перемещаться по миру и представлен как свой аватар?
Новые технологии ставят новые вопросы и предоставляют новые позиции для взгляда на вопросы старые. Видеоигры здесь не исключение. Важно, чтобы философское сообщество не оставалось в стороне от этих возможностей. Они способны открыть новые пути философских исследований.
Мартин Хендрикс
Что значит быть мобом?
Я хорошо знаю, что из этого ничего не выйдет; раньше или позже любой, за кем я слежу, исчезнет в какой-нибудь двери или вдруг подзовет такси
Макс Фриш
Сидим на кровати. Джойстики, телевизор. Курим, играем. Становится скучно. Ваня говорит: давайте последим за мобами1, что они будут делать?
GTA-5. Очень мало людей на улице. Так как-то и не заметно. Когда проходишь историю, толпы только мешают. Когда веселишься с пулеметом, то нет недостатка в полиции. Но если оставить дела и просто пройтись по городу, то встретится лишь небольшая горстка мобов, одновременно бродящих в поле зрения. Иногда бывает довольно много машин, особенно на трассах и в центре города. Последнее совпадение неудивительно — центры больших городов и есть трассы. И то, и другое never sleeps.
Оставить дела, найти время. Перестать быть деятельным началом игрового мира. Превратить фон в объект. Первое, что замечаешь: бессмысленность поведения отдельного моба. В противоположность ощущению общей занятости, целесообразности, живой целостности. Мировой дух горазд на такие иллюзии. Но стоит присмотреться к мелочам. Подходим к телефонной будке: персонаж не может пройти туда. Он шире. Будка — не локация, а бутафория. На лавочки нельзя сесть, но мобы могут это сделать. Часто тусят около больницы или озера. Следим за банкоматом. За полчаса никто им не воспользовался. Вряд ли мобы вообще могут это сделать.
GTA-5. Маленькая деревня на севере карты. Реднеки, трактора, много пыльного и коричневого. В этом районе возрождешься около длинного плоского здания больницы. Слева живет семья: пара мобов и собака. Очень агрессивны. Раз за разом прихожу и забираю их транспорт: машину или квадроцикл. Всегда убиваю собаку, бесит. В этот раз так же: снимаю ее из снайперской винтовки, сразу же после выхода из больницы. Мобы занервничали, но полиция пока спит. Подхожу ближе, сношу женщине голову дробовиком. Мужчина поворачивается и начинает бежать. Вскидываю прицел. Он падает. Я делаю это без ненависти, но каждый раз. Маленькая личная традиция.
Что они чувствуют, эти странные объекты Хармана? Есть ли у них внутренняя жизнь в то время, когда я сношу им башку? Или так: отличная ли моя внутренняя жизнь от их? Отлична ли реализация биологических программ от выполнения кода? Являюсь ли я урожденным киборгом? Дает ли мне сложность качественное отличие?
Из больницы прибегают два медбрата. Стоят над трупами, говорят между собой, и один что-то пишет в тетради. (В San Andreas медики воскрешали убитых, а тут — нет, тело валяется, пока не отвернешься). Я никогда не смогу подслушать этой беседы, никогда не узнаю, что записано. А могу ли я подслушать, что происходит в голове у моей жены? Я вижу движение губ, слышу голос: что, что там? Один медик уходит в больницу. Второй идет в противоположную сторону. Как это? Куда? Убираю оружие, чтобы не пугать. Крадусь следом на почтительном расстоянии. Переходят дорогу. Я — следом. О! — его сбила машина. Но не насмерть, только подрезала. Выходит водитель. Это молодая женщина. Медик встает, начинается драка. Нокаут! Девушка падает. Медик бьет ее ногами. Еще, еще. Мертва. Медик машет руками, видно, что-то опять говорит. Стоит над телом и записывает в тетрадь. И тут его сбивает фура. На полной скорости.
GTA-5. В сельской местности следим за полицейской машиной. На мотоцикле. Они очень быстро ездят, но всегда по одному и тому же маршруту: патрулируют местность (в San Andreas такого нет). Вдруг – замигали, дай дорогу. Поехали на вызов. Преследуют красный пикап по трассе. Давят его на обочину. Еле успеваем. Влетаем втроем в маленький населенный пункт. Преследуемый останавливает машину. Выходит. Полиция тоже. Двое на одного. Он прячется за дверью, стреляет. У полицейских – пистолеты, у него – дробовик. Реднек. На нас не обращают внимания, хотя стоят в пяти метрах. Один полицейский падает. Второй обегает и расстреливает преступника в упор. И тут: собака. Черт знает откуда она выбежала, но она грызет мента. Мент стреляет в нее. И оба падают замертво. Начинается дождь. Время к ночи. Вокруг двух брошенных машин и четырех трупов собирается пробка. Вызываем скорую. Приезжает, выходят медики и, постояв над телами, уезжают. Всё, правда, тщательно записав и обсудив. Пробка ширится, водители начинают драться, некоторые объезжают по обочине. Вызываем полицию. Приезжают, расталкивают пробку. Наезжают на тела своих сослуживцев. Стоят некоторое время и уезжают. Светает. Больше 911 нам не отвечает. Разворачиваемся к пробке спиной.
Существовать — значит быть воспринимаемым. Но существовать — значит и совершать ошибки. Хорошо, что Бог иногда отворачивается от мира. А то у него не было бы будущего.
Мобы все одинаковые. Отличаются мерой своих ошибок, уникальностью сбоя программы. Джайны и некоторые современные философы-когнитивисты считают, что люди отличаются друг от друга мерой своего незнания. Что ж.
Watch Dogs. Заметили курящего в уголке моба, нервного какого-то, но им, беднягам, есть о чем переживать. Так вот, в качестве эксперимента решили закурить с ним, посмотреть, кто докурит быстрее: он в игре или мы в реальности? Мобы курят бесконечно долго. Может, сигареты у них электронные, черт знает.
San Andreas. Веду перестрелку с полицией. И вдруг: вам нужно есть, а то будете худеть и терять жизни. Хорошо, пойду заточу бургер. Открываю карту, прокладываю маршрут, сажусь на мотоцикл. Лавирую между машинами: уровень розыска четыре звезды. Вот кафе. Захожу, внутри тишина. Заказываю несколько бургеров и салат. Спокойно ем. Иду в служебное помещение. Беру огнетушитель. Я — сорванец. Слышу выстрелы. Поворачиваюсь: в зале полно полиции. Набегают. Я не дурак, подпускаю ближе. И внутри помещения для персонала, где только я и он, мент, забиваю огнетушителем до смерти. Врываюсь в зал, поливаю всех газом. Но они тихие такие, не стреляют. Осматриваюсь: кто поднял руки вверх, прям с пистолетом, кто забился в угол, как гражданский. Сбой программы. Все мобы в кафе — обычные, без профессии, горожане.
Забиваю их ногами. Безропотны.
San Andreas. Слежу за полицейским на мотоцикле. Мысль: надоест — вышибу мозги, отберу транспорт, покатаюсь с ветерком. Полицейский транспорт не слишком удобен для трюков, тяжел, не самый быстрый, зато довольно устойчив к механическим повреждениям. Пока слежу. А он агрессивный и бойкий весьма. Давит прохожих (двоих), преследует и расстреливает задевших его водителей (троих). Недолог, правда, век храброго мента: напоролся на машину с бандой. Три человека, два — с оружием. Перестрелка. «Мой» мент хорош: стреляет сидя, перекатывается. И те — лошки. Но попадают в мотоцикл, и несколько раз. Транспорт взрывается и убивая одного бандита. «Мой» — не теряется, даром, что оглушен. И расстреливает гада. Но вот полицай задумался: я же мотополиция, куда я без мотоцикла? Побродил вокруг трупов. Посмотрел вокруг. Что делать? Пошел по улице. Давай, думает, побуду просто полицейским. Или даже так: гражданским. Но нет, программа влечёт. Бежит. У светофора — к гражданской машине. Вытаскивает из нее старушку. Садится. Газ! Я — следом. Проезжает квартал, поворачивает, тормозит носом в стену. Выходит. И тут я врезаюсь к него, не рассчитав поворот. И, конечно, слежка насмарку, начинается погоня за мной.
Теория свободы воли Деннета: представьте себе сложный мир, который управляется конечным набором простых законов. На высоком уровне сложности вам потребуются интенциональные термины, чтобы описать поведение наблюдаемых объектов, хотя в них нет никаких высоких сущностей.
Выходит, по Деннету, персонажи GTA-5 обладают свободной волей?
Иван Фомин
Евгений Логинов
Поиск вне-исторического Иуды1
Центральным персонажем новозаветного повествования является, конечно, Иисус Христос. Описанию Его жизни посвящены известные всем четыре Евангелия и множество других канонических и апокрифических сочинений. Созданное с целью отчистить лик Иисуса от позднейших наслоений, в академической библеистике с XVIII века существует отдельное направление исследований, традиционно именуемое «поиском исторического Иисуса». Иначе дело обстоит с другими персонажами новозаветной истории — Марией Магдалиной, Иудой Искариотом, Иосифом Обручником и др. О них практически ничего не сказано в канонических евангелиях, однако в истории европейской культуры их имена обросли множеством легенд и преданий. К подобного рода рассказам можно отнести такие ранние апокрифы, как Евангелие Иуды, Евангелие от Петра, Евангелие от Марии и т.д. В Средние Века множество новых «фактов» о жизни евангельских персонажей (в частности, Иуды) было записано в «Золотой легенде» Иакова Ворагинского. Вплоть до наших дней люди переосмысляют деяния и образы этих энигматических персонажей новозаветной истории, о которых сам текст Библии не говорит практически ничего.
Невозможно представить себе такое направление исследований, как «поиск исторического Иуды» или «исторической Марии Магдалины», — для корректной исторической реконструкции у нас слишком мало надежных источников. Однако можно заняться не менее продуктивным исследованием: поиском вне-исторического Иуды, то есть того образа Иуды, который формирует для себя каждая отдельная эпоха, традиция, конфессия. И одним из первых исследований такого жанра на русском языке является монография Светланы Георгиевны Замеловой «Приблизился предающий… Трансгрессия мифа об Иуде Искариоте в XX—XXI вв.»
Работа Светланы Георгиевны состоит из трех частей. Первая часть теоретическая, о ней скажем ниже. Вторая часть работы посвящена недавно открытому и ставшему предметом научных и околонаучных дискуссий Евангелию Иуды. Хотя по данной теме на русский язык переведено несколько добротных работ (в первую очередь — «Утерянное Евангелие от Иуды» Б. Эрмана; много релевантной информации и в более общей монографии К. Эванса «Иисус глазами ученых: Правда и ложь новейших открытий и скандальных исследований»), даже искушенный читатель найдет текст Светланы Георгиевны информативным и полезным. Третья, более обширная и наиболее интересная часть работы посвящена анализу различных «портретов» Иуды в художественной (А. Франс, Л.Н. Андреев, Х.Л. Борхес и др.) и философско-богословской литературе (К.Г. Юнг, Д.С. Мережковский, прот. С. Булгаков и проч.). Автор указывает на тот факт, что в современной культуре Иуда предстает не как предатель Христа и худший из апостолов, а как невинная жертва и даже особый избранник Божий. Теоретическому объяснению данного феномена, который религиоведы называют «трансгрессией мифа», посвящена первая часть монографии. В ней приводятся теории известных культурологов, философов и религиоведов, занимающихся рассмотрением данного феномена
Книга С.Г. Замеловой будет интересна теологам, религиоведам и культурологам, а также другим специалистам гуманитарного профиля.
Алексей Андреев
Интервью
Насущная потребность духа
Интервью с Андреем Николаевичем Муравьёвым, кандидатом философских наук, доцентом Санкт-Петербургского государственного университета и, по совместительству, Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, руководителем теоретического семинара «Неизвестный Гегель», сопредседателем Санкт-Петербургского Общества классической немецкой философии, автором статей по философии образования
Текст интервью напечатан не полностью. Полную версию интервью можно найти в нашем блоге (datepalmcompote.blogspot.ru).
Финиковый Компот: Вы последовательно проводите различие разума и рассудка, критикуя последний за его односторонность. Но не предполагают ли некоторые философские проблемы однозначного решения? Например, проблема вагонетки, проблематизирующая утилитаристскую этику, требует ответов в стиле «да/нет».
Андрей Муравьев: Аналитическая философия — это чисто рассудочная форма мышления. Я думаю, что лучший ответ на её дилемматический вопрос состоит в том, что меня в этой вагонетке нет.
ФК: Вашу логику относительно современного статуса философии в системе образования можно представить так. То, что сейчас называют философией, есть не философия, а скорее филодоксия, т.е. любовь к мнениям. Это плохо, поскольку настоящая философия есть как минимум любовь к мудрости. Она предполагает у тех, кто ею занимается, стремление к абсолютному знанию, к познанию истины. Вследствие того, что философия ныне работает преимущественно со мнениями, ее не уважают представители естественных наук, а чиновники всячески ее репрессируют. Только тогда, когда философия снова займется своим делом, всё станет хорошо. Но не должны ли те, кто работает с мнением, а именно чиновники и ученые, распознавать в рассудочной философии своего друга, а в разумной философии — мистику?
А.М.: Не думаю. Я сошлюсь на одного из уважаемых мною современных мыслителей — Хосе Ортегу-и-Гассета, который в своем пресловутом, т.е. весьма известном, но плохо понятом, «Восстании масс» сказал совершенно, по-моему, точно, что философия сегодня потому находится в незавидном положении, что философы последние сто лет занимаются чем угодно, только не своим делом. Ортега имел в виду Гегеля как последнего, кто занимался своим делом. Когда же они займутся своим делом, тогда философия в некотором смысле будет править всеми другими делами. Обратите внимание: не Ортеге как философу хотелось править, а ему было обидно за философию, в которой он кое-что понимал, в отличие от всех тех, кто выступил против Гегеля. Филодоксия, как это называли Платон и Кант, потому и находится ныне в незавидном положении, что мнений более чем достаточно у всех других, и оплачивать государственными деньгами мнения филодоксов излишне.
ФК: Что Вы имеете в виду под «незавидным положением философии»? Ведь речь идет не только о том, что она сама плоха, но и о том, что плохи ее социальные позиции?
А.М.: То же самое, что и Ортега, который в «Восстании масс», написанном в 1929 году, говорил только о Европе, ибо я не вижу перемен с того времени. За исключением того, что в Советском Союзе философия (и в 1929 году тоже), была под защитой государства и впервые в нашей истории стояла на необыкновенно высоких позициях. Не будем сейчас говорить о том, что это была за философия по содержанию, но имя носила именно такое, и она называлась так не случайно.
ФК: Но существует довольно много фактов, которые говорят о том, что сейчас «Золотой век» философии. На Западе, во всяком случае, на философские факультеты идут люди с самыми лучшими оценками, а зарплаты выпускников стоят сразу после бизнесменов и профессиональных спортсменов.
А.М.: Не знаю, стоит ли то, что выходит из-под пера американских философов, как и достижения профессиональных спортсменов, таких денег. Этот феномен, скорее, должны объяснять знатоки американской экономики. Интерес же западной общественности к такой философии, если он существует, легко объяснить. Ответ лежит на поверхности. Он может быть объяснен так же, как выдающаяся, в свое время, популярность работы Локка «Опыты о человеческом разумении» (якобы о человеческом разумении, а на деле — просто о представлении). Это феномены одного порядка. Как иронически относился к подобным фактам Гегель, если публика сама уже заранее знает то, что она находит в книге, то тем больше тиражируется подобная книга. Поскольку публика находит в книге ей уже известное, постольку она остается очень довольна собой и этой книгой.
ФК: Вы говорите, что философия должна стать центрообразующей для всего сонма наук, искусств и религий посредством университетского образования. Как Вы мыслите в этом случае связь философии с экспериментальной наукой?
А.М.: Если философия как таковая культивируется в университете профессионалами, которые занимаются собственно философией, то это и есть предпосылка необходимой реформы того, что называется системой образования, в том направлении, в котором остро нуждается ныне человеческий дух. Прежде, чем попасть в лабораторию, экспериментатор должен окончить, скажем, физический факультет, где история философии должна преподаваться не в меньшем объеме, чем на философском факультете, т.е., по меньшей мере, восемь семестров. Причем преподаваться преподавателями, действительно понимающими глубинную суть истории философии, состоящую в развитии разумного способа мышления, а не поверхностно трактующими ее как историю разных философских учений, т.е. мнений философов, каких и должен выпускать философский факультет. Тогда способ мышления физика о своем предмете впервые станет разумным.
ФК: Что значит сейчас быть гегельянцем?
А.М.: Это значит (сейчас и всегда) быть презренной личностью на ниве философии — так же, как быть кантианцем, платоником, аристотеликом. Сейчас дело не в том, чтобы догматически разделить букву какого-либо учения, даже такого замечательного, как гегелевское. Те, кто это делают, еще и букву искажают. Например, ваш друг Андрей Мерцалов. Он, конечно, не гегельянец, но видно, что у него и гегелевская буква посылается куда подальше из-за нужд его самочинной интерпретации. Не нужно просто заучивать или как-то по-своему интерпретировать Гегеля, ибо это и значит быть гегельянцем, т.е. эпигоном Гегеля. Но что же нужно? Нужно дальше развивать философию в том направлении, в каком она сама развивалась две с половиной тысячи лет, от Фалеса до Гегеля включительно. Насущная потребность современного духа как такового состоит в том, чтобы в своем образовании опереться на настоящую философию, которая двадцать пять веков развивалась и развилась в то, чем она впервые предстала в гегелевском изводе. Очень хорошо, если бы к гегелевскому прибавился еще какой-то извод, ибо если бы это был извод того же самого, что и у Гегеля, то это и было бы дальнейшим развитием философии после Гегеля.
ФК: Представьте, что перед вами лежит текст, который гегелевским тоном заявляет, что он и есть такого рода развитие. По каким критериями Вы бы установили, истинно ли это притязание или нет?
А.М.: Вопрос о критериях — рассудочный вопрос. Но я понимаю, прочитав примерно страницу текста: лишь заявка это, или это действительное развитие. Как у меня это происходит, мне трудно сказать, но внешние признаки того, с чем я бы хотел иметь дело, я указать могу. Во-первых, это то, на какого рода работы ссылается автор. Потому что обычно на «Феноменологию духа», «Науку логики», «Энциклопедию» и «Философию права» современные авторы ссылаются даже меньше, чем на его лекции. Важно, ссылается или нет автор на энциклопедические Прибавления. Если ссылается, то это — настораживающий индикатор, хотя и не решающий. И на них, и на лекции можно ведь и адекватно сослаться. Во-вторых (и это главный признак), понимает ли автор, что предмет и метод гегелевской философии — одно и то же. Если для него предмет одно (скажем, абсолютное), а метод — другое, то для меня это сразу решает вопрос, надо ли читать этого автора дальше, потому что тождество предмета и метода есть основной пункт гегелевской философии.
ФК: Можете ли Вы называть работы, которые удовлетворяют этим критериям?
А.М.: Разумеется. То, что я слышал в Санкт-Петербургском университете от Евгения Семёновича Линькова, и то, что я читал в его опубликованных работах — наверное, единственное приятное исключение.
ФК: О чем Вы никогда не думали?
А.М.: Я никогда не думал о тщете философских занятий.
Язык — не роскошь
Интервью с Валерием Александровичем Суровцевым, доктором философских наук, профессором Философского факультета Томского государственного университета, одним из крупных отечественных специалистов по Витгенштейну, истории аналитической философии; переводчиком работ Л. Вигенштейна, Я. Хинтикки, Г. Фреге, С. Крипке, У.В.О. Куайна, А. Айера и др.; автором «Автономии логики», посвящённой философии раннего Витгенштейна, работ «Ф.П. Рамсей и программа логицизма», «Язык, сознание, мир» и др.
Полную версию интервью можно найти в нашем блоге (datepalmcompote.blogspot.ru).
Финиковый Компот: Чем для Вас является работа переводчика?
Валерий Суровцев: Перевод, во-первых, крайне тяжёлый труд. Особенно он тяжёл, когда отсутствует устоявшаяся традиция перевода текстов какого-либо философского направления. Я по этому поводу могу привести одну иллюстрацию: когда немецкую классическую философию в 19 веке начали переводить, до того, как появились более-менее качественные переводы, были представлены наработки, которые имели определённую степень приближения к оригиналу, что было связано не с тем, что переводчики были плохие, а попросту с отсутствием соответствующей терминологии в русском языке.
Мы знаем, что один язык изоморфно в другой язык не переводим. Так происходит потому, что значения разных выражений, как говорил когда-то аналитический философ Г.Л.А. Харт, образуют некоторую текстуру, где есть ядро значений, а вся периферия размыта. А зачастую в терминологии именно периферия играет очень важную роль, поэтому уловить систему коннотаций для переводчика весьма трудно. Нельзя, скажем, просто прийти с улицы и взяться переводить тексты какой-то философской традиции — нужно, прежде всего, самому в некоторой мере быть вовлечённым в неё. Работа переводчика распадается на два направления: освоение самой традиции и адаптация этой традиции к родному языку, что затруднительно осуществлять в условиях фактического отсутствия, скажем, традиции аналитической философии в родной стране. Работа переводчика во многом и направлена на создание соответствующей среды.
Говорят: «Зачем переводить, когда у нас столь многие владеют языками, читают труды в оригинале?» — но дело же не только в умении читать на иностранных языках, но и в том, чтобы создать вполне определённую интеллектуальную культуру, и тут мы должны чётко уяснить себе, что не все люди, интересующиеся философией, являются профессиональными .....и. А эта культура — языковая среда. Как бы мы хорошо не читали на немецком, английском или ином языке, думаем мы преимущественно на русском, транслируем идеи по-русски, поэтому очень важно, чтобы соответствующая языковая среда существовала.
Приведу небольшой пример: недавно я был на конференции в Нидерландах, в университете Гронингена, — мне выделили кабинет, принадлежавший какому-то находившемуся в то время в отъезде аспиранту. Этот аспирант, насколько я понял по библиотечке, хранившейся там, интересовался в основном Франкфуртской школой — больше всего меня поразило то, что практически весь набор книг (почти весь Адорно, Маркузе, Хабермас) был представлен на голландском языке. Казалось бы, совершенно различная с Россией языковая ситуация: каждый голландец свободно владеет английским, немецким и голландским, поэтому смысл перевода Хоркхаймера или Адорно несколько неясен. Однако очевидно, что определенную культурную функцию всё это выполняет. Нужно ведь понимать, что переводы не являются самоцелью — они возникают в результате разработки какой-либо концепции: когда ты хочешь до мельчайших подробностей понять идею, то создаёшь соответствующий ей текст с продуманной системой терминов на русском языке.
ФК: Как Вы относитесь к тому, что многие аналитические философы, в частности американские, утверждают, что философия языка уступает пальму первенства философии сознания, а такие известные аналитические философы как Г.П. Бейкер и П.М.С. Хакер отзывались о сознании как «последнем прибежище философского мерзавца»?
В.С.: Нужно понимать, что для аналитической философии изучение языка никогда не представляло собой самоцели, т.е. понимать, что мы не имеем в виду под языком, в частности, мы не имеем в виду, будто язык — это лишь внешняя лингвистическая оболочка. По крайней мере, не она сама по себе интересует аналитических философов. Задавая вопрос о языке, мы неизбежно ставим вопрос о том, что посредством него и в его рамках выражено. И когда мы начинаем об этом рассуждать, то получаем совершенно определённого рода когнитивные теории и онтологические концепты. Замыкать всё на исследовании лингвистической оболочки нельзя, да и никто так не делал. У аналитиков любого периода изучение языка — только средство прояснить способы проекции знаковых систем и отражающихся в них онтологических представлений. Аналитика прежде всего отличает то, что он понимает простой факт, что невозможно брать «сознание само-по-себе» — стоит сперва рассмотреть то, как мы концептуализируем его в языке. Когда мы говорим о «натурализации» программы исследований сознания, стоит отметить, что наиболее видные её представители (тот же Дж. Сёрл) также начинали с описания языковых феноменов. Философ не занимается рассмотрением сначала неких внеязыковых когнитивных актов, а лишь затем их выражения с помощью языка — напротив, он продуцирует некоторые воззрения, касающиеся языка, которые позволяют увидеть в нём определённые типы проявления сознания, а затем (если опять же вспомнить Сёрла) изучает формы рациональности в деятельности. Наверное, есть доля истины в том, что несколько иначе стала трактоваться роль решения языковых проблем по сравнению с ранней аналитикой, так как в последние десятилетия чрезвычайно активно развиваются когнитивные дисциплины, без знакомства с которыми исследование познавательного процесса выглядит сомнительным.
ФК: Витгенштейн в ЛФТ говорит, что психология или дарвиновская теория имеют не большее отношение к философии, чем любая другая научная теория. От данного воззрения современная аналитическая философия отказалась?
В.С.: Нет, понимаете, конечно, теория относительности или дарвиновская теория не имеют непосредственного отношения к философии, но когда мы говорим об интерпретации этих теорий, связанной с характером используемого в них языка, то тут возникают интересные философские вопросы. Мы можем говорить о различных эволюционных теориях, связанных с понятиями, которые к арсеналу понятий естественных наук не имеют никакого отношения, как, например, витализм. Я уж не веду речь о том, с помощью какой терминологии данные теории выражены: упомянутая дарвиновская теория имеет непосредственное отношение к понятию «видообразование», но, вообще-то говоря, идея естественных видов имеет своим истоком философию Аристотеля. Многие же современные лингвисты критикуют понятие «естественного вида» и разрабатывают новые теории, основанные не на естественности классификации, но на своеобразии употребления терминологии. Будет ли это влиять на биологию? Вероятно, будет. Безусловно, сама дарвиновская теория не имеет прямого отношения к философии, но язык линнеевской классификации, на котором она выражена, имеет, так как принцип классификации всегда можно подвергнуть сомнению. Дарвинизм имеет к философии не большее отношение, чем любая другая теория. Только не стоит извлекать из него мировоззренческие выводы.
ФК: О чём Вы ещё не думали?
В.С.: Откровенно говоря, этот вопрос содержит в себе перформативное противоречие. Как на него ответить? Наверное, стоит создать что-то в роде расселовской иерархии типов, где «недуманье 1-го порядка» отличалось бы от «недуманья 2-го порядка» и т.д. Или можно было бы различить такие вещи, как моё желание о чём-то подумать и наличие времени для того, чтобы об этом подумать. Если мы говорим в этом смысле о том, о чём я ещё не думал, то стоит ответить так: есть ещё очень много проблем, с которыми хотелось бы разобраться. Это касается и некоторых проблем философии математики, и современного состояния теории дескрипций, по которой в последнее время вышло очень много работ, относящихся к переосмыслению двухаспектной семантики, и т.д. Кроме того, в последнее время я занимаюсь Дж. Муром, в частности — идеей концептуального анализа.
Чему поучиться аналитическим .....
Интервью с Джесси Принцем, философом, психологом и когнитивистом, профессором The City University of New York (CUNY). Принц работает в области философии сознания, эстетики, теории морали, теории эмоций и экспериментальной философии. Автор книг «Gut Reactions: A Perceptual Theory of Emotion» (2004), «The Emotional Construction of Morals» (2007), «Beyond Human Nature» (2012), «The Conscious Brain» (2012).
Финиковый Компот: Что вы думаете о разделении философии на аналитическую и континентальную?
Джесси Принц: Сначала я изучал континентальную философию, а потом занялся логикой, аналитической философией и, наконец, когнитивной наукой. Когда я переходил из одной традиции в другую, я чувствовал, что континентальные философы задают более интересные вопросы, но аналитики используют более строгие методы. Слишком часто континентальные философы пишут неясно, а люди, которые изучают континентальную философию, настаивают на специализации на творчестве какого-то одного философа вместо того, чтобы решать проблемы или отвечать на вопросы. Когда континентальные философы описывают область своей специализации, они склонны перечислять известные фигуры, а не темы. Это поощряет существование разных гуру и поклонение героям. Здорово, конечно, найти автора, который вдохновляет вас, но опасно думать, что некие идеи хороши только потому, что встречаются у симпатичного вам мыслителя. С другой стороны, мне кажется, что дебаты аналитиков зачастую пусты, а поиск конкретного решения подменяется спором о словах. Лично я полагаю, что не имеет значения, является ли метод континентальным, аналитическим или эмпирическим, если он способен помочь в решении проблем. Как специалист в когнитивных науках, я верю, что мы узнаем больше, используя различные дисциплины. Континентальные философы в этом отношении пошли дальше, чем аналитические. Ницше обращался к филологии, Мерло-Понти — к психологии, Фуко — к истории и так далее. Аналитикам есть чему поучиться у этих авторов.
ФК: Как бы Вы определили экспериментальную философию?
Д.П.: Эта философия отсылает к экспериментальной работе, которую делают философы или философски ориентированные психологи, которые пытаются ответить на философские вопросы. Сто лет назад философы стали изучать формальную логику. Теперь появилась экспериментальная философия, которая зовет нас узнать технологию психологического эксперимента. Это естественное развитие, так как психология выросла из философии. Экспериментальная философия пытается вернуть эти две области к балансу.
ФК: Каково, на Ваш взгляд, соотношение экспериментальной философии и классического прагматизма?
Д.П.: Думаю, нам есть чему поучиться у прагматизма. Когда я читал «Принципы психологии» Уильяма Джеймса, я поражался тому, как много из его блестящих прозрений ещё не освоено нами в должной мере. Он не любил делать эксперименты, но расценивал работу экспериментаторов как философскую. Сегодня он бы защищал экспериментальную философию. Дьюи далеко опередил свое время, подчеркнув связь между действием и восприятием, что является важной темой для современной когнитивной науки. Когнитивисты не читают Дьюи, но они должны это делать. Я также считаю, что полезно помнить прагматисткий взгляд на спор реализма и антиреализма. Сегодня принято считать, что если исследователь эмпиристски ориентирован, если он видит философию как продолжение науки, то он обязан быть метафизическим реалистом. Но прагматизм осознал, что актуальная наука не стремится к сильным формам реализации. Теории играют роль в конструировании мира. Современные эмпиристски ориентированные философы не должны забывать это. Если мы снова продумаем эту идею, то сможем понять, что экспериментальная философия есть скорее наследница прагматизма, чем более поздней аналитической философии.
ФК: Правда ли, что мы можем использовать экспериментальную философию, чтобы верифицировать результаты концептуального анализа?
Д.П.: Некоторые аналитические философы используют метод концептуального анализа. Они пытаются установить концептуальные истины, размышляя, что из чего следует. Например, я спрашиваю: совместима ли свободная воля с детерминизмом? И пытаюсь ответить на этот вопрос, анализируя понятие «свободы» или определяя, совместимо ли оно логически с представлением, что все человеческие действия каузально детерминированы. Но как можем мы устанавливать концептуальные истины? Аналитические философы делают это, разрабатывая гипотетические ситуации, тестируя наши интуиции. Это ценный метод. Но как философ может быть уверена, что ее интуиции надежны? Как она может быть уверена, что эти интуиции разделяют другие люди? И тут на помощь приходят экспериментальные методы. Они могут подтвердить, что эти интуиции присущи и другим людям и что на них можно полагаться. Но они могут также открыть исследователю источник её предвзятости. Эксперименты позволяют провести систематическое исследование того, как та или иная интуиция была образована и в какой степени она соответствует концептуальному знанию, а в какой отражает некоторые произвольные предпочтения. Эксперименты показывают, что понятия не являются фиксированными сущностями, но ковкими и неполными теориями, проистекающими из наблюдений, культурных верований и других источников. Экспериментальная работа ставит под сомнение идею, что мы можем найти устойчивые и окончательные, или аналитические, истины, независимые от опыта.
ФК: Что Вы думаете о настоящем и будущем гегелевской системы в современной философии?
Д.П.: Должен признаться, что я не большой поклонник Гегеля. Гегель занимался спекулятивной метафизикой там, где Кант занимался человеческой психологией. Гегель часто выдвигал идеи, которые трудно или невозможно подтвердить. Некоторые его основные понятия, такие как Дух, настолько неясны, что непонятно, как могла бы выглядеть проверка его системы. Я думаю, это нанесло урон философии, так как поощряло занятие последующих поколений такой философией, которая была больше похожа на религию, чем на науку. Таковы мои личные предубеждения. Но есть вещи, которые меня восхищают в Гегеле. Когда он пишет об искусстве, то его суждения очень глубоки, в отличие от кантовских. Он также много сделал, чтобы помыслить историю как предмет философской рефлексии. Это подготовило почву для материалистов, таких как Маркс и Энгельс, которыми я восхищаюсь. Маркс и Энгельс предлагает конкретные, материалистические идеи об исторических процессах, которые могут быть проверены.
ФК: Что философия может сказать о видеоиграх и что видеоигры могут сделать для философии?
Д.П.: Видеоигры ставят множество интересных вопросов. Вот три наиболее важных для меня:
(1) Могут ли видеоигры быть рассмотрены как искусство? Если могут, то это очень интересно, ведь новые виды искусств появляются в человеческой истории крайне редко. Живопись, скульптура, музыка, поэзия и театр существуют вот уже десятки тысяч лет. Кино может быть новым искусством, но оно связано с живописью и театром. Видеоигры подчеркнуто интерактивны, что отличает их от традиционных искусств.
(2) Существуют убедительные свидетельства о том, что видеоигры влияют на мышление и поведение. Они могут улучшить ваши когнитивные навыки, но в то же время усилить жажду насилия и даже, в некоторых случаях, потворствовать оскорбительному отношению к людям (некоторые игры очень сексистские и ксенофобские). Я думаю, что видеоигры могут также помочь нам в изучении природы знания. Наше сознание — не библиотека, не пассивное хранилище информации. Человеческое знание — это гораздо больше навык. Знать – значит уметь. Исследование влияния видеоигр на психику позволяет лучше разобраться в этом, ведь процесс игры заключается в приобретении навыков.
(3) Некоторые видеоигры представляют собой альтернативные реальности. Виртуальные миры, как «Second Life», поднимают вопросы об идентичности и аутентичности. Если кто-то имеет идентичность в виртуальном мире — аватар — является ли она реальной частью Я? Или другим Я? Менее ли оно реально? Должны ли мы предпочитать реальную жизнь виртуальной? Игры становятся все более захватывающими, и мы сталкиваемся с возможностью разлада между игрой и обыденной жизнью. Мы изобретаем новые способы быть, пределов которым нет. Видеоигры могут означать конец человечеству, как мы его знаем.
ФК: О чем Вы никогда не думали?
Д.П.: Парадоксальный вопрос! Как только я начинаю отвечать, я начинаю думать об этих вещах, и понимаю, что ответы уже опровергли сами себя. В философии я пытаюсь работать во многих областях; мне интересно, как разные вопросы связаны друг с другом. Но существуют области, которые я проигнорировал. Например, я никогда особенно не интересовался спортом, проигнорировал философию спорта (очень небольшую область в философии). Но сейчас я заметил, что игнорирую эту область, и понял свою ошибку. В спорте люди образуют сильные альянсы и развивают страстные предпочтения. Для того, кому интересны сознание и мораль, спорт очень актуален. Он как микрокосм социального поведения. Возможно, мы сможем лучше понять моральную психологию, если будем изучать спорт. Поэтому я должен прекратить пренебрегать этой областью.
Идентичности
Почему нет линьковцев
Постоянная тяга интеллектуального сообщества к сугубо формальным определениям явлений напоминает «кнопочное мышление» завсегдатаев социальных сетей. Иллюзия активности здесь доведена до умопомрачения. Возникшая в молодой голове, возможно, и прекрасная идея, сразу транслируется одним щелчком мыши по кнопке «создать группу». И ты на коне. Дело пошло, ты начал. Удивительная ловушка! Атрофированная форма ещё не созданного рассказа о ещё не созданном деле. Подобный механизм, особенно благодаря своей скорости, подавляет способность суждения, не дает повода помыслить, поскольку якобы конечный результат получается ещё до какого-либо действительного действия на пути к своей реализации. Устаревшее слово «прожект» в его ироничном звучании как нельзя лучше подходит для такого «продукта».
Желание обеспечить ещё не помысленное содержание каким-либо определением — принципиальная теоретическая ошибка, ошибка школярская, ибо определение есть результат пройденного пути мысли. Раздавать определения — что может быть проще? Помыслить содержание как оно есть — что может быть сложнее?
Воспитание в себе последнего есть то самое ценное, то вечное в человеке, что по необходимости должно соответствовать по истине высшему образованию. Можно ли назвать такой принцип определяющим какую-то там философскую школу? Насколько вообще адекватно по отношению к разуму задаваться таким вопросом, прекрасно понимая, что это всего лишь вопрос о форме, а разум преодолевает сугубо формальное отношение?
Поэтому говорить о Линькове, Муравьеве, их учениках и последователях, определяя основные черты, формулы, присущие якобы только этому узкому кругу лиц, этому локальному сообществу — не получится, так как это было бы той самой ошибкой формального отношения, ошибкой, присущей рассудку, ошибкой отношения к действительности.
Гегельянство, фихтеанство, кантианство и прочее «-янство» неспроста созвучны пьянству, ибо принцип в некотором роде тот же — вдоволь напихать в себя конечное содержание учения и потом вечно бродить во тьме рассудка, спотыкаясь обо все расставленные на пути камни действительности. Не дать вызреть этой слепоте — вот дело настоящего философского образования. Можно ли ограничить сферу его действия каким-то отдельным течением, когда это есть принцип, необходимый всякому уму, дабы двигаться дальше по своему пути, не ограничивая свое творчество конечным отношением к предмету — любым из «-янств»? Стать интеллектуальным алкоголиком потому ничуть не лучше, чем упиваться формой обыденного сознания. Задача философа в том, чтобы сохраняя трезвость, твердыми шагами ступать по тропе мысли.
Представление о принципиальной сложности мира и потому невозможности ясно ответить на любой из вопросов вечности есть именно и только представление, болезненно опирающееся на костыли видимости. Тем и чудесна помощь Евгения Семеновича Линькова и Андрея Николаевича Муравьева, что позволяет человеку эту видимость отбросить, выйти за рамки представления, полагаясь не на чьи-либо убеждения, принципы «школы», но лишь на самого себя. Здесь ты не получишь ответы от учителя, а дашь их сам. В этом и состоит основная ценность для ученика или последователя Линькова и Муравьева, удача оказаться рядом с этими людьми — они ничего тебе не дадут, кроме возможности истинно понять, что ты сам все можешь себе дать, и помогут это осуществить — а именно выполнить наставление Сократа — познать самого себя. Не наполняя мир молодого ума представлениями, трактовками, концептами, но позволяя ему самому per aspera ad astra прийти к разуму, а потому стать человеком не по названию, а по делу.
В этой дерзкой простоте мысли и таится великая сила педагогики Линькова и Муравьева, именно о ней и можно вести речи — не о том, как подать истину, чем и занимаются всяческие «школы», а как помочь тебе самому прийти к ней — самостоятельно и потому наверняка.
Эдуард Карякин
Философия в России
Санкт-Петербургский философский семинар
В Санкт-Петербурге на протяжении последних пятнадцати лет под руководством замечательного российского философа Олега Михайловича Ноговицына действует философский семинар. Участников семинара было множество, но постоянных на протяжении всех 15 лет — только пятеро. Помимо самого Олега Михайловича, это Гатиятуллин Булат Рустамович, Данилов Игорь Юрьевич, Зайцев Игорь Николаевич и Стекольников Александр Анатольевич. Александр Стекольников имеет ученую степень по биологии. Все остальные — кандидаты философских наук.
Семинар ставит своей целью — впервые после двухвекового перерыва, последовавшего после работ Гегеля, — построение цельной и оригинальной философской системы; ведется обсуждение различных сложных и необычных построений, предложенных О.М. Ноговицыным.
На протяжении последних семи лет семинар имел аудиофиксацию. Последние два года к аудиофиксации добавилась и фиксация на видео. Скорее всего, это единственный в мире философский семинар, имеющий регулярную трансляцию на каналах YouTube и Vimeo. Приятно сознавать, что, кроме пятерых постоянных участников «в реале», семинар имеет — несмотря на исключительную сложность обсуждаемых вопросов — еще и семь-восемь участников виртуальных, не пропускающих ни одного заседания семинара на протяжении последних двух лет.
В центре круга вопросов, обсуждаемых на семинаре, находится понятие «форма». «Форма» есть, а «предмет» в этой «форме» становится. Отсюда, в частности, видно различие между построением Ноговицына и, например, традицией немецкой классической философии, для которой «форма» является формой становления определенности, а не «бытия».
Своей концепцией «формы» как «формы бытия» петербургский философский семинар О.М. Ноговицына претендует на революционность в философии.
Помимо претензий на революционность и построение принципиально новой философской системы, семинар выполняет и несколько чисто дидактических функций. Во-первых, работа этого семинара показывает, что философия «на русском» появилась и существует; во-вторых, семинар предъявляет русскоязычной аудитории образец красивых и сложных построений.
В самом деле, не секрет, что подавляющее большинство студентов, обучающихся по гуманитарным специальностям вузов — в отличие, например, от студентов-математиков — так никогда и не сталкиваются с настоящей сложностью и нетривиальностью построений как в процессе своего обучения, так и после него. С отсутствием представления о сложности эти бывшие студенты часто доживают и до профессорских седин. Речь, разумеется, идет не о том, что выпускники философских факультетов ведущих российских университетов не способны к сложной интеллектуальной деятельности, а в том, что образец возможного сложного построения этим бывшим студентам так и не был предъявлен. Задачу предъявления примера крайне нетривиальной интеллектуальной деятельности в русском культурном пространстве как раз и решает семинар О.М. Ноговицына «Онтология формы».
Игорь Данилов
Философские сообщества
Венский кружок:
Часть 2
Изучая историю Венского кружка, мы сталкиваемся с интересным обстоятельством: некоторые его участники по политическим мотивам «деполитизировали» кружковую деятельность. Более того, эти участники, рассказывая о кружке, как будто стремились внушить, что это — чисто академическое объединение, не имеющее политических амбиций и занимающееся исключительно вопросами логики и теории науки. Приведем несколько примеров. Гуго Динглер в предисловии к своим «Основаниям геометрии» (1933 г.) утверждал, что Венский кружок, берлинское общество эмпирической философии, а также их совместный журнал «Познание» «бессмысленно абсолютизируют организационные формы», и потому сильно похожи на «политический большевизм». Отвечая на такой выпад, Ганс Райхенбах в статье «О собственном деле» уверял, что журнал и его сотрудники «не имеют просто никаких дел с политикой». Далее, Мориц Шлик в письме к дирекции венской полиции от 2 марта 1934 г. возражал против закрытия Общества Эрнста Маха и точно так же, как и Райхенбах, утверждал, что «общество абсолютно аполитично, и заявление, что его деятельность как-то связана с социалистической партией, на самом деле полностью ошибочно». Наконец, любой читатель легко заметит, что популярная монография Виктора Крафта «Венский кружок. Возникновение неопозитивизма» проникнута тем же «аполитичным» настроением (стоит отметить, что в 1938 г. Крафта лишили рабочего пособия, и подобную несправедливость компенсировали только в 1950 г., когда ему, семидесятилетнему, наконец предложили кафедру в венском университете). В одном маленьком примечании, которым Крафт невольно отдает должное «анти-позитивистским» условиям послевоенной Австрии, мы читаем: «Политическая тенденция, которую Нейрат иногда пытался привнести в публикации и которой Динглер попрекал ‘‘Венский кружок’’ в предисловии к своим ‘‘Основаниям геометрии’’, не имела никакой связи с устремлениями ‘‘Венского кружка’’, которые были чисто философскими. От нее отказался Райхенбах [...], и ее при мне категорически отверг проф. Шлик».
Попробуем оценить эти признания, сделанные под политическим принуждением; попробуем узнать, насколько они корректны. Для этого обратимся к истории Общества Эрнста Маха (далее — ОЭМ). Благодаря ОЭМ венский кружок стал известен общественности и, более того, взял на себя определенную долю политической ответственности, связавшись с народно-просветительским культурным движением «Красная Вена». И все потому, что кружок Шлика не пожелал превращаться в «закрытый клуб», члены которого обсуждали бы только теоретико-познавательные вопросы: действительно, основы «логико-эмпирического миропонимания» закладывались на Больцмангассе (по четвергам вечером), но к концу 20-х годов эта работа в своей существенной части уже была проделана. Далее можно было говорить о том, чтобы «установить тесную связь с теми активными движениями современности, которые расположены к научному миропониманию и отказываются от метафизики и теологии. Той организацией, через которую кружок обращается сегодня к широкой общественности, является Общество Эрнста Маха». Именно так заявлялось в программном документе венского кружка, специально написанном в 1929 г. Ханом, Нейратом и Карнапом для ОЭМ.
ОЭМ не было организовано членами венского кружка, не было оно и частной инициативой кого-либо из «венцев» (хотя иногда утверждается, что именно «левые» участники кружка создали Общество для распространения своих идей). Нет, ОЭМ было создано и оформлено другими людьми. Но такое Общество обладало набором средств, с помощью которых можно было популяризировать результаты закрытых обсуждений — внушать непосвященной публике те идеи, которые продумывались и уточнялись в дискуссиях единомышленников. Идея основания ОЭМ возникла у представителей австрийского «Союза свободомыслящих», который, в свою очередь, создавался для борьбы с «удушающим государством». Опорной базой «Союза свободомыслящих» были политически активные рабочие и прогрессивные интеллектуалы, провозглашаемая цель — «укрепление свободомыслия, то есть выработка и распространение социалистического миропонимания и социалистической жизненной позиции, основывающейся на научном фундаменте». В апреле 1927 г. «Союз свободомыслящих» прислал в венский магистрат статуты запланированного «Всеобщего естественнонаучного образовательного общества Эрнста Маха», целью которого объявлялось: «через учреждение курсов, проведение докладов и лекций, через экскурсии, через предоставление специализированной научной литературы распространять естественнонаучные знания». Общество с так декларированной целью было не в новинку для Вены и вполне вписывалось в традицию венского движения народного просвещения; под руководством социал-демократической администрации города это просветительское движение принимало разные формы. Для венской просветительской традиции были равно характерны как разнообразные народные высшие учебные заведения, высшие школы для рабочих, так и «Общественный и экономический музей» Отто Нейрата.
Собрание, на котором было учреждено ОЭМ, состоялось 23 ноября 1928 г. в праздничном зале Венской ратуши. Примечательно, что подзаголовок новой организации отразил только её естественнонаучную направленность: «Общество по распространению знаний точных наук». Лишь после того, как общество официально было оформлено, к нему присоединились участники кружка Шлика. И при этом довольно быстро заняли важные места. В списках «комитета пропонентов» еще доминировали имена знаменитых свободомыслящих, особенно тех, кто принимал активное участие в делах школьного образования (разного ранга школьные советники, окружные школьные инспектора), однако участники кружка Шлика сумели занять такие позиции, которые позволяли им оказывать концептуальное влияние. Сам Шлик был выбран председателем, Хан стал заместителем председателя, Нейрат и Карнап были назначены ответственными за составление и публикацию отчетов. Постепенно свободомыслящие уходили на второй план, и в центр начали выдвигаться участники венского кружка и социал-демократические функционеры: венский кружок безоговорочно доминировал в научной и концептуальной области — имена «венцев» всего чаще встречались в бумагах, документировавших то или иное научное мероприятие. «Хотя организация после учреждения все еще была предоставлена свободомыслящим, венский кружок сообщил серьезный научный импульс и способствовал более широкой и более интенсивной докладовой деятельности».
На учредительном собрании выступил Нейрат с программным докладом «Эрнст Мах и научное миропонимание». Этим докладом Нейрат положил начало длинному ряду публичных выступлений своих сотоварищей. Доклады делались вплоть до 1934 г. (до роспуска ОЭМ) — как правило, это были рефераты, в которых подводились предварительные итоги логико-методологическим и общенаучным исследованиям, а также конспективно передавались идеи, обсуждавшиеся в кружке Шлика. Именно благодаря реферативным докладам обсуждения и дискуссии венского кружка получали общественный резонанс. Хан говорил об «Избыточных сущностях (бритва Оккама)», «Математике и науке», «Языке и физике»; Нейрат — о «Единой науке и марксизме», «Магии и технике», «Социологии в физикалистском языке», «Единой науке и психологии»; Карнап — о «Боге и душе, мнимых вопросах метафизики и теологии», «Единой науке на физическом основании»; Шлик — о «Научном миропонимании в США», «Проблеме каузальности», «Философских течениях в США»; Фейгель — о «Законе природы и свободе воли», «Статистической закономерности»; Вайсман — о «Логике, языке и философии», «Логике и языке» и т.д.
С учреждением ОЭМ начинался новый, «общественный» этап в истории венского кружка. Теперь каждый его участник, хотел он этого или нет, становился элементом венского культурно-просветительского движения, непрестанно разраставшегося, но при этом сталкивавшегося с противодействием консервативно-клерикальных кругов, политика которых определялась «Христианско-социальной партией». Теперь «венцы» наверняка знали, кто был их союзником, а кто — противником. Фронтовые бои с метафизикой и теологией, с прогрессирующим иррационализмом перестали быть академической забавой или простым «теоретическим» противостоянием. Теперь нельзя было говорить только о философской позиции — речь уже шла о связанных с этой позицией политических предпочтениях, о политической активности в условиях всеохватывающей общественной и культурной борьбы. Шаг, сделанный Венским кружком, с одной стороны, открывал его широкой общественности, но, с другой стороны, впутывал его участников в «жестокие социальные и экономические битвы современности», вынуждая тем самым к ясному определению своего места в политическом противостоянии. В программном документе «Научное миропонимание — Венский кружок» мы читаем: «Одна группа сражающихся, которая в социальном плане опирается на мир прошлого, отстаивает также унаследованные, часто давно уже содержательно преодоленные установки метафизики и теологии; в то время как другая группа, обращенная к новым временам, в особенности в Центральной Европе, отклоняет эти установки и стоит на почве опытной науки». Стоит рассказать о создании знаменитого «манифеста логического позитивизма». Этот документ не только отражал политическое сознание «левой фракции» кружка, но также передавал его внутренне плюралистическую физиономию.
В начале 1929 г. Шлик получил выгодное приглашение в университет Бонна. У друзей Шлика это известие не вызвало радости: невосполнимая потеря грозила не только кружку, но и ОЭМ. В этой ситуации 2 апреля правление ОЭМ обратилось к своему председателю и членам общества со следующим письмом: «Общество Эрнста Маха поздравляет своего председателя, профессора Шлика, с выпавшим благодаря приглашению в университет Бонна признанием и вместе с тем просит его в своем решении обратить внимание на идеальные (ideellen) моменты, которые говорят в пользу того, чтобы он остался в Вене: приверженцы точного миропонимания лишились бы своего духовного руководителя, своего признанного представителя в университете, если бы профессор Шлик покинул Вену и не возникло бы возможности, чтобы кто-нибудь другой сумел заполнить брешь, образовавшуюся тем самым в духовной жизни Вены. Ущерб, который вследствие этого испытало бы миропонимание, представленное в Обществе Эрнста Маха в тесном идейном единстве с его председателем, был бы глубок и мучителен». Письмо оказало задуманное действие: Шлик остался в Вене, но это решение он принимал с тяжелым сердцем, так как были серьезные причины для его переезда в Бонн, к тому же австрийское правительство не придавало никакого значения его пребыванию в Венском университете. Сразу же после того, как выяснился вопрос о переезде в Германию, профессор Шлик по приглашению отправился в Стэнфордский университет. Во время его отсутствия ОЭМ совместно с берлинским обществом эмпирической философии форсировано подготавливало «Собрание по теории познания точных наук», которое должно было пройти с 15 по 17 сентября 1929 г. в Праге. Также была запланирована публикация программной брошюры, ответственными за которую стали Хан, Нейрат и Карнап; их задача состояла в том, чтобы точно определить философскую и политическую позицию венского кружка. Вступление к «манифесту венского позитивизма», который был написан уже к августу 1929 г. и опубликован первым в серии «Публикации Общества Эрнста Маха», включило в себя такие слова: «Это сочинение будет передано Морицу Шлику в октябре 1929 г., после его возвращения из рабочей командировки в Стэнфордский университет, Калифорния, в знак дружбы и благодарности за то, что он остался в Вене».
Примечательна в связи с этим реакция Витгенштейна, которого через Вайсмана просили принять участие в работе над объемной комментированной библиографией, прилагаемой к программному документу. Витгенштейн в такой работе участвовать не пожелал и написал из Кембриджа следующее письмо: «Дорогой господин Вайсман! Это трудная история. Я, как и остальные друзья Шлика, придерживаюсь того взгляда, что ему следует доставить радость. Но я также за то, чтобы венская школа не проституировала по этому поводу, как обыкновенно это делают все венские институты по любому поводу. И мне неприятно думать, что тут, как и всегда, сам по себе хороший мотив будет использован как повод для показной бурной деятельности (G’schaftelhuberei). Именно поскольку М. Шлик не есть обыкновенный человек, он заслуживает того, чтобы мы остерегались, даже из хороших побуждений, своим хвастовством выставить на посмешище его и венскую школу, экспонентом которой он является. Когда я говорю ‘‘хвастовством’’, то под этим имею в виду всякого рода самодовольное самолюбование. ‘‘Отказ от метафизики!’’ Как если бы это было чем-то новым! [...] Что же касается сведений о содержании моей книги, то какое мне до этого дело! Если они будут — или мне стоит сказать, ‘‘были бы’’ — написаны в подобающем духе, т.е. по существу и со скромностью, то я не имею, или не имел бы, ничего против; в ином случае они мне не по вкусу и я их запрещаю, даже если бы мне это чем-то пригодилось. Лично же я прощу Вас — не ради меня (поскольку мне ничего не будет), а ради Вас самих — ведите себя подобающе! То есть из любезности не делайте для клики (Хан, Карнап и т.д.) того, о чем позднее — отчасти с усмешкой — Вы будете просить прощения у себя самого и у других. [...] Пожалуйста, примите это письмо так, как оно было задумано, а именно, благожелательно и серьезно». Предупреждения и увещевания Витгенштейна не оказали никакого действия. Несколько подправленный членами ОЭМ программный текст был опубликован, к нему было приложено краткое изложение «Трактата», сделанное Вайсманом. Опубликованный текст был, по сути, политическим манифестом, а «отказ от метафизики» стал интегральной составной частью культурной борьбы. Шлик сильно удивился, когда узнал об этой программе. Похоже, он оказался не вполне доволен тем, в каком стиле с помощью этой работы его благодарили другие участники кружка. В 1930 г. он сообщил одному своему знакомому, что не может «назвать себя согласным как с рекламным стилем, так и с несколько догматически звучащими формулировками брошюры».
Такие оговорки, однако, не мешали Шлику активно участвовать в интенсивной и масштабной общественной работе венского кружка, к началу тридцатых годов достигшей своей высшей точки. Организовывались серии докладов, устанавливались контакты с близкими по духу учеными, посещались или проводились собрания. (Как раз в сентябре 1929 г. в Праге состоялось первое «Собрание по теории познания точных наук», а вторая встреча прошла уже через год в Кёнигсберге.) Каждое мероприятие получало освещение в прессе и поэтому всегда становилось известным широкой читающей публике. В 1930 г. по поручению берлинского общества эмпирической философии и ОЭМ Райхенбах и Карнап начали издавать журнал «Познание»; до 1937 г. этот журнал издавался в Felix Meiner-Verlag в Лейпциге, а с 1938 г. до 1940 г. — в van Stockum & Zoon в Гааге. В журнале публиковались доклады с конференций, совместные работы берлинского и венского обществ, обсуждались важные теоретические вопросы. В издательстве Шпрингера в Вене под редакторством Франка и Шлика выходили «Труды по научному миропониманию»; в рамках этой серии были опубликованы центральные работы Карнапа («Очерк логистики» 1929 г., «Логический синтаксис языка» 1934 г.), Шлика («Вопросы этики» 1930 г.), Нейрата («Эмпирическая социология» 1931 г.), Франка («Каузальный закон и его границы» 1932 г.), Поппера («Логика исследования» 1934 г.). Насколько политически влиятельной оказалась вся эта публицистическая деятельность, видно по противодействию противников венского кружка, в число которых входили и представители традиционной школьной философии, и католические консерваторы, и фашиствующие любители «миросозерцательных» учений. «Хотя предстоят еще тяжелые сражения и нападки. Но все же много тех, которые не падают духом, а напротив — перед лицом современной социальной ситуации с надеждой смотрят в будущее». Предсказание, сделанное, по всей очевидности, Нейратом, вскоре подтвердилось. Однако грозящие бои и предстоящие столкновения оказались более тяжелыми, чем умел предвидеть взор, смотрящий в будущее с надеждой.
Дмитрий Миронов
Свободные люди
Проект анархического общества в Испании
Когда идёт речь о реализации идеала анархического общества, как правило, стараются найти примеры подобной реализации в истории. Такие попытки, безусловно, имеют свой смысл. Наряду с дискуссионной темой «махновщины», мнения о которой поляризованы настолько, что образ анархии исчезает за разговорами о нравственном облике украинских анархистов, вспоминают также и опыт испанского анархизма.
В России интерес к испанскому анархизму очень вырос за последние десять лет, что явилось следствием как развития исследований социально-политических наук в области истории Европы (см., например, работы В.В. Дамье, А.В. Шубина и др.), так и формирования связей между российскими и испанскими анархистами в целом. Образ Батьки Махно стал вытесняться смутными представлениями о Национальной конфедерации труда (НКТ) и Федерации анархистов Иберии (ФАИ). Именно испанский опыт стал универсальным ответом на вопрос «А где вообще анархия, как её представляют себе анархисты, была?».
К 1930-м годам Испания представляла собой в большей степени аграрную страну с небольшим количеством промышленных комплексов. «Проблема города и деревни» фактически отсутствовала. Городская инфраструктура органично перетекала в деревенскую. Класс промышленных рабочих прекрасно сосуществовал с крестьянами. Человек, отправляющийся в город для получения профессии рабочего, редко сталкивался с отсутствием практики взаимопомощи, к которой он привык в деревне. Индустриальное производство в Испании сильно зависело от деятельности профсоюзных организаций. И крестьянская община, и система профсоюзных организаций были устроены на общих началах солидарности и взаимовыручки. С политической точки зрения в Испании марксизм не имел такой силы, как, к примеру, в России и Германии. Концепция партийной борьбы не могла тут получить монополию на политическое влияние. Анархизм здесь согласовывался с изначальными социальными условиями. Людям не надо было объяснять, что общество может быть организовано «снизу вверх».
Поэтому разразившаяся в Испании социальная революция 1936-1939 гг. имела в своём основании именно творчество народных масс. Военный мятеж против республиканского правительства не привёл к милитаристской диктатуре – этому препятствовала НКТ, которая нашла поддержку среди населения. Деятельность испанских анархистов того времени принципиально отличалась от того, чем приходилось заниматься анархистам в других уголках мира. Испанские активисты работали с теми элементами социальной организации, которые уже существовали, – они поддерживали крестьянскую общину, укрепляли профсоюзные организации, способствовали интеграции социальных движений в крепкие гражданские и трудовые союзы, активно работали над организацией дискуссионных площадок по самым разным вопросам. Обсуждались, наряду с политическими событиями, и темы глубоко повседневного, но социально важного характера: организация семьи, воспитание детей, образовательный процесс и многое другое. При отсутствии идеологического контроля за умственной жизнью, распространялась литература самого разного толка. Большой популярностью пользовались труды Фрейда, Юнга, Кропоткина и Бакунина.
Товарно-денежные отношения сохранялись во многих уголках Испании, но в некоторых её частях деньги отменялись, на смену им приходили либо трудовые купоны, либо бартерный обмен. Ввиду изначальной органичной связи городской и деревенской инфраструктур, процесс обмена товарами между городом и деревней не встречал затруднений. Электростанции, транспортные предприятия, типографии и заводы находились в руках разного рода ассоциаций. Анархизм пользовался популярностью в странах, где начавшаяся индустриализация ещё не вытеснила крестьянскую общину. Так некоторое время было в Японии и Корее, пока индустриализм вместе с ростом милитаризации населения не иссушили благоприятную для реализации идей анархизма почву.
Строительство анархического общества в Испании происходило в ситуации глубочайшего политического кризиса. Гражданская война ослабила военный потенциал страны. Испания была беззащитна. Геополитическая нестабильность привела к тому, что империалистическая Германия стала финансировать милитаристские идеи Франко, который в скором времени сформировал армию и начал борьбу против коммун и ассоциаций испанских анархистов. На смену анархическому обществу пришло общество тоталитарное. Начались массовые расстрелы анархистов. Несмотря на это, анархо-синдикалистские организации продолжали насчитывать несколько десятков тысяч сторонников. НКТ на фоне массовых репрессий вела свою работу даже под угрозой полнейшего уничтожения.
НКТ существует и по сей день. В Каталонии и Иберии, наиболее анархических частях Испании, анархо-синдикалистские профсоюзы продолжают свою работу. В политическом отношении они отошли от революционного анархо-коммунизма и синдикализма в сторону муниципального социализма. Сейчас Испания представляет собой «Мекку» для каждого, кто считает себя идейным анархистом.
Николай Герасимов
Выделите её и нажмите Ctrl + Enter

 In English
In English